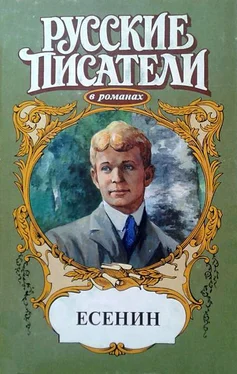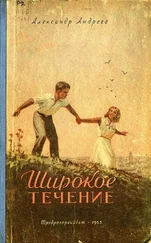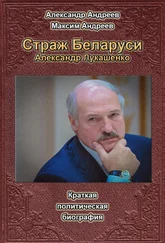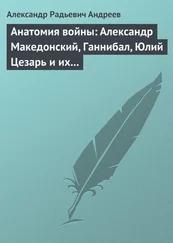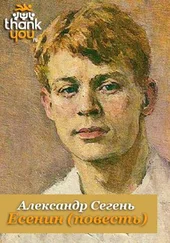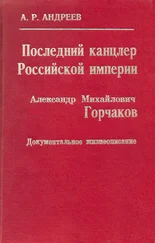Есенин глядел на него влюблённо, улыбаясь.
— Гриша, друг мой любезный, неизменный! Знаешь, как я тебя люблю — на всю жизнь! Я для тебя не знаю что сделаю. Хочешь, брошусь в воду и утону? Пусть! Мне для тебя и жизни не жалко.
— Я тебя тоже люблю, Серёжа, — признался Гриша. — Ты мне как брат, дороже брата, ближе... — Он усмехнулся. — Забавный ты всё-таки. Серёжка... Тебе умирать никак нельзя. Ты талантливый. Тебе писать надо. Учиться... Что-нибудь сочинил новое? Почитаешь?
— Потом, Гриша, потом! Когда уляжется вот здесь. — Есенин приложил руку к груди.
На звоннице ударили в колокол, звук его, призывный и печальный, поплыл над рекой, и не успевал ещё затихнуть, отдаляясь, как следом за ним плыл новый, такой же густоты звук...
Есенин замер, встревоженно уставясь на Панфилова.
— Мать честная! Совсем позабыл. Сегодня ж мой черёд читать в церкви. Бежим скорее!
Учитель Викентий Эмильевич Волхимер, дежуривший в этот день по интернату, встретил Есенина недружелюбно, с плотно сжатыми тонкими и синеватыми губами, выражавшими и неприязнь, и озлобление, и физическую боль. Волхимер страдал какой-то сжиравшей плоть болезнью и от этого был худ, с неживой желтизной на висках, с заострившимся длинным носом, с глазами, налитыми тоской. Мучимый хворью, он был придирчив к ученикам, а к Есенину особенно: не любил его, потому что понимал: смирением, покорностью тот прикрывал свою независимость и своё презрение к нему, а преклонялся перед учителем Хитровым — на стихах сошлись.
— Почему вы отлучились без разрешения учителя-надзирателя?
— Я вышел только в рощу, — оправдывался Есенин, виновато опустив взгляд. — Извините, пожалуйста.
— Ив рощу нельзя. Вы не в лицее, чтобы гулять в парках и рощах, а в церковно-учительской школе. Церковно!.. Понимаете? И вы не Пушкин.
Улыбка, едва коснувшись губ Есенина, затрепетала в уголках. Он тихо, но с твёрдостью произнёс:
— Я Есенин.
— Это ещё ничего не значит! Марш в общежитие! Постойте. Вы готовы читать Часослов [12] Часослов — книга, содержащая тексты некоторых церковных служб — часов.
?
— Готов.
Ко всенощной учащиеся шли нестройной колонной, обходя рыжеватые оттепельные лужи. Под ногами чавкал мокрый снег. Солнце, отсветив своё, садилось, и глубокие колеи, налитые водой, как бы скованы были красным ледком; лёд хрустел и позванивал, отлетая на зернистый снег.
Гриша Панфилов зябко поёживался от предвечерней свежести, негромко и сухо покашливал. Есенин, взглянув на него, сказал:
— Зачем раскрыл грудь? Горло голое. — Снял с себя шарф и окутал им Гришину шею, застегнул на все пуговицы лёгкое его пальто.
— Не надо, — пожаловался Гриша. — Мне дышать трудно, воздуха мало...
— Зато теплей. Теплей ведь?
Сзади Есенина шагал Кудыкин, долговязый, нескладный парень; оттопыренные уши его напоминали крылья ветряной мельницы. Длинные ноги, болтавшиеся в голенищах тяжёлых сапог, Кудыкин переставлял как-то разбросанно, неряшливо, то и дело оскользаясь, и при каждом шаге брызги мокрого снега, разлетаясь, залепляли брюки идущих рядом.
Есенин с первой же встречи невзлюбил Кудыкина прочно и навсегда. И мосластую, дылдистую его фигуру, и бледные глаза в рыжих поросячьих ресницах, и увесистые кисти рук, что высовывались из рукавов, и упорную, тупую зубрёжку, и похвалы учителей за прилежание и хорошие ответы на уроках, и то, как он жадно и неопрятно ел, засовывая в рот всю ложку до самого черенка. За то, что отец его, владелец маслобойни, навещая сына, привозил подарки учителям и особенно жаловал Волхимера...
Кудыкин отвечал ему тем же. За Кудыкина стояли и Калабухов, и Епифанов, и Яковлев, объединившиеся вокруг способного ученика Тиранова. Они считали Есенина удачливым выскочкой — ему, как им представлялось, во всём везло. Их удивляло его радостное нетерпение в любом деле, за какое бы он ни брался. Его дерзость граничила с заносчивостью. Он был самостоятелен в оценках всем и всему — иногда неверных, но безапелляционных; споры частенько разгорались, как костры, и переходили в ссоры со взаимными оскорблениями. Кудыкин с друзьями чувствовали превосходство Есенина над ними; деревенский парень, лапотник, а держится высокомерно, по-барски; одежда, вернее, одежонка всегда безукоризненно чистая, выглаженная, и носит он её с подчёркнутым изяществом, даже с форсом; в прищуренных глазах его таится презрение к ним и насмешка; в классе, на уроке, среди тишины вдруг разразится смехом, настолько непосредственным, искристым, что учителя почему-то не наказывали ученика, а сами улыбались, заражаясь его весельем; на улице девчонки-дурочки провожали его заворожёнными глазами.
Читать дальше