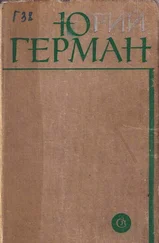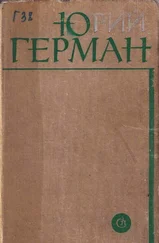Часов в десять Иноземцев явился домой и принялся за чаепитие. Пирогов слышал, как он наливал себе чай и как возился со своей банкой – замочек худо открывался. Чтобы не встречаться с ним глазами, Пирогов лежал в постели, отворотившись к стене, и делал вид, что нездоров. Иноземцев не обращал на него никакого внимания. Попив чаю, он накричал на Андреуша, потом стал одеваться, чтобы уходить, и при этом напевал свою любимую песню, которой научился от ненавистного Пирогову Пиларха фон Пильхау:
Вот он сам, Зайдернауп,
Вот сам он, кожаный Зайдернауп,
Си-са, Зайдернауп…
Си-са!
Все было отвратительно в этой песенке – и бессмысленный Зайдернауп, и то, что он почему-то кожаный, и идиотский припев «си-са», и тот похабный второй смысл, который вкладывался певцами в эти невинно-глупые слова.
Си-са,
Я бываю то могуч, то нежен,
Си-са, великий Зайдернауп,
Все зависит от моего настроения,
Си-са…
Он пел и рылся в ящиках своего комода, потом вдруг спросил:
– Послушайте, великий анатом, мне позавчера пришла посылка, в посылке была новая черная манишка от Линке и черный галстук с подгалстушником, вы не видели?
– Нет, не видел! – сказал Пирогов. – И если я вчера съел из вашей банки, будучи лично без сахару, несколько кусков, то вы не имеете права намекать мне…
Пирогов сел в постели. Лицо его горело, глаза светились ненавистью.
– Не имеете! – крикнул он. – Я не ваш крепостной, я не разрешаю…
Иноземцев ненатурально заулыбался и сказал, что он и в мыслях не имел ничего такого, что сахар он запер вовсе не от Пирогова, а от Андреуша и что стоило Пирогову только сказать – я взял у вас несколько кусков сахару…
– Это низко, то, что вы считаете ваш сахар, – крикнул Пирогов, – это низко считать куски сахару!..
– Но, милый Пирогов, – начал опять Иноземцев, – я повторяю вам, что вы не так поняли…
И он длинно стал говорить об Андреуше, а Пирогов не слушал его и только с ненавистью смотрел на его красивые бакенбарды и хорошо выбритый подбородок, на всю его крепкую и самодовольную фигуру с широкими плечами, на ноги, обутые в твердые башмаки с двойною подошвой, а потом внезапно отвернулся и лег спиною к нему.
– Вы не хотите со мною говорить? – спросил Иноземцев.
Пирогов не ответил.
– Бог с вами, – сказал Иноземцев, – вы больны, у вас дурное настроение, я не виноват.
Подушившись скверными духами, он ушел в студенческую муссу.
Пирогов еще долго лежал не шевелясь, чувствуя себя несчастным и глубоко оскорбленным, потом встал, мучимый голодом, и послал нетрезвого Андреуша в трактир за ужином. Андреуш тотчас же вернулся и сказал, что ужинов не будет, пока Пирогов не заплатит долг.
– Так ведь нам еще не платили, – в тоске молвил Пирогов.
Проклиная свою голодную жизнь, он вышел на улицу и поплелся без цели из переулка в переулок. С неба сеял отвратительный холодный дождь, масляные фонари тускло отражались в лужах, в голых ветвях деревьев свистел ветер.
Пирогов медленно шлепал по лужам, медленно перешел мост через Эмбах, поглядел вниз на темную воду, и хотел было возвращаться домой, как дикие клики и вой стали доноситься до него из мрака по эту сторону Эмбаха. Он зашагал обратно и скоро достиг переулка, сплошь запруженного студентами университета. Стоя под проливным дождем в своих плащах и ботфортах, почти все пьяные, они выли и ревели на разные голоса с такой силой, что в окнах дрожали стекла. Головы всех были обращены к крыльцу трактира «Веселое препровождение досуга», и Пирогов понял, что студенты возглашают анафему хозяину заведения.
– За что? – спросил он огромного студента в крошечной шапочке, и студент с готовностью ответил, что негодяй хозяин отказал в кредите одному из сеньоров – старосте корпорации.
Под кошачье мяуканье и дикий вой хозяин в жилете и в ночном колпаке появился на крылечке своего заведения. Работник-эст вынес за ним фонарь. Вой и визг при появлении хозяина достигли апогея. Хозяин в ужасе прижался спиною к дверям. Тотчас же рядом с ним на крыльце оказался прославленный бретер Пиларх фон Пильхау, без крагена, в мундире и в шапочке, позументы которой тускло сверкали при свете фонаря. Изрубленное и тупое лицо Пиларха дышало негодованием. Подняв руку в черной кожаной перчатке, он мгновенно заставил замолчать несколько сот глоток и ослиным голосом провозгласил анафему на неопределенное время всему заведению. По второму мановению его руки все подхватили анафему, и устрашающий рев вновь разнесся по Дерпту.
Читать дальше
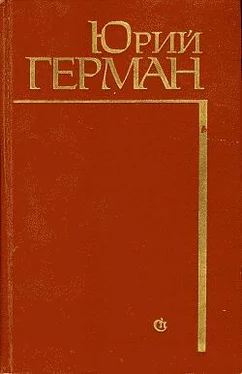


![Юрий Герман - Чекисты [Сборник]](/books/80038/yurij-german-chekisty-sbornik-thumb.webp)