I
Уже более года, как граф Алексей Андреевич Аракчеев жил на берегу Волхова в пожалованном ему селе Грузине, отставленный от службы грозным приказом императора Павла. Ничтожный повод для этой отставки ясно указывал, что она была следствием тонкой интриги врагов Аракчеева, во главе которых стоял петербургский генерал-губернатор граф Пален, вкравшийся в доверие государя. В тиши деревенского уединения Аракчеев имел время многое обдумать, многое припомнить в бессильной злобе против «гогов и магогов», как называл он вельмож, составлявших двор императора Павла. А между тем после царской опалы, постигшей Аракчеева, прекратились всякие связи его с Петербургом: боялись навещать его, боялись ему писать; не писал ему и давний его друг и воспитанник по военной службе, наследник престола, великий князь Александр Павлович. Только большая Московская дорога, в восьми верстах от Грузина, по которой летали царские фельдъегеря, шли обозы и тащились в тяжелых дормезах знатные путешественники, сопровождаемые или дворовою челядью, или воинским конвоем, была источником известий для грузинских обитателей. Но слухи оттуда, правда, один мрачнее другого, не все доходили до их грозного помещика, хотя и того, что узнавал он, было слишком много, чтобы возмутить его покой. Несколько месяцев назад провели по этой дороге в кандалах генерала князя Сибирского, недавнего товарища графа Аракчеева в царских милостях, а на днях только что высланы из Петербурга старые слуги Павла, графы Панин и Ростопчин, хотя Ростопчин был не менее предан царю, чем и он, Аракчеев. Не понимал он ничего во всем происходившем, как ни старался постигнуть смысл царского гнева, тем более, что вот уже третий месяц по этой же Московской дороге, по царскому указу, сотнями то ехали, то шли в Петербург, часто в рваных мундирах и в лаптях, все исключенные ранее со службы офицеры, чтобы лично из императорских уст услышать милостивое слово прощения и вновь поступить на службу. Среди них столько людей, погибших по доносам и докладам Аракчеева! И милость к ним не была ли предвестием новых грядущих бед для него, графа Аракчеева? И часто снилось ему, что и он идет, подобно князю Сибирскому, в кандалах по большой Московской дороге и что солдаты вымещают на нем его старые побои и мучительства. Он уже начал часто посматривать на противоположный, низкий берег Волхова, на дорогу из Петербурга, не покажется ли вдали знакомая кибитка фельдъегеря, и в ушах его нередко звенел обманчивый звук колокольчиков фельдъегерской тройки. «Боже, спаси и сохрани верного раба Твоего!» шептал он тогда в ужасе, творя крестное знамение, и звал к себе своего «верного друга», Настасью Федоровну, двадцатилетнюю черноглазую красавицу, незадолго перед тем из жены артиллерийского фурлейта превратившуюся в графскую любовницу и полновластную хозяйку Грузина и его обитателей.
Молодой генерал был холост и нуждался в друге-советнике.
Но Настасья не могла ничем помочь графу в его государственных соображениях: она вся ушла в управление поместьем и постоянно докучала Аракчееву докладами о лености и неповиновении грузинских крестьян. Всего лишь четыре года прошло, как из дворцовых крестьян они стали крепостными «Ракчеева», как звали они нового своего помещика, а им стало жить тяжелее, чем солдатам, теснее, чем монахам в самом захудалом скиту. Граф завел для них солдатские порядки: каждому определено было, когда спать ложиться, когда Богу молиться, когда что есть и пить, когда какую работу справлять, и если не было установлено, когда и что думать, то за лишними словами было много охотников следить и доносить или самому «высокографскому сиятельству», или Настасье Федоровне, которая была еще строже, чем сам генерал. Наказания были нещадные, а работы тяжкие: Аракчеев тогда обстраивал свое Грузино, воздвигал себе дворец и начал постройку собора. Но как ни был Аракчеев жесток, как ни любил он строгое соблюдение раз введенного им порядка, но со времени постигшей его царской опалы он стал мягче относиться к крестьянам: знал он, что император был доступен к их жалобам на помещиков, и боялся их доносов, которыми не замедлили бы воспользоваться его многочисленные враги. Присмирел «Ракчеев», и крестьяне, даже сама Настасья Федоровна, не могли надивиться, какие иногда милостивые решения изрекал он, в частые минуты страха и душевного смятения, в ответ на доносы управительницы.
Читать дальше
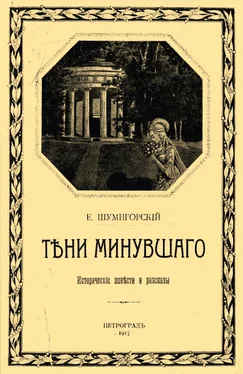

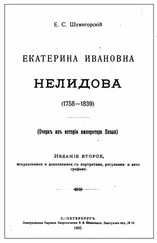




![Евгений Никитин - В тени экватора [litres]](/books/391341/evgenij-nikitin-v-teni-ekvatora-litres-thumb.webp)




