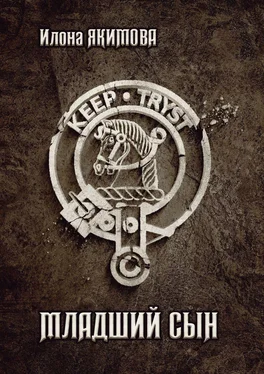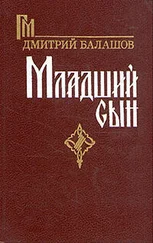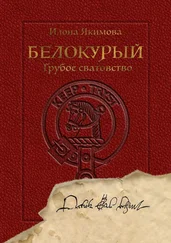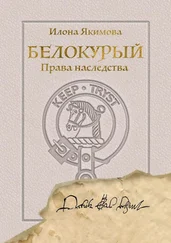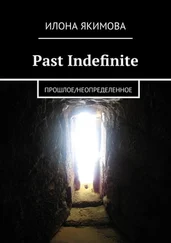Спустя две недели у кармелитов я застал молодого брата Иеремию в храме – молящегося, лежащего на полу, простершегося крестом. Он извивался на плитах песчаника, он бормотал о том, что на шестой день, выпавший на субботу, Иисус распятый снизошел и поцеловал его открытым ртом, совсем так, как делают шлюхи, но это совсем не то, что ты подумал, Джон, вовсе нет, то был призыв к таинству понимания его пресуществления. Он трясся, дурно пах, изо рта его змеилась блестящая струйка слюны. Помешанные, извращенцы, безумцы – вот кто меня там окружал.
Лафнесс оказался в числе первых обителей, откуда я сбежал. Отец-настоятель там был из наших, из ваутонских, но и это никого не спасло.
– Пять ран Христовых! – молвил Адам, увидав меня в Хейлсе, оборванного и грязного. – Да он же убьет тебя, младший…
И послал за миской порриджа в кухню. Мардж смеялась и плакала.
Я перебрал их все – все монастыри Ист-Лотиана. Я сбежал отовсюду. Доминиканцы, кармелиты, августинцы Эдинбурга – да, я удрал даже из аббатства Холируд, хотя именно это потребовало от меня особой изворотливости. Тринитарии Данбара, тринитарии Дирлетона и снова Данбар – на сей раз кармелиты. В Хаддингтон граф и вовсе не повез меня, всего-то пять миль от Хейлса, ясно, что я окажусь дома уже к вечеру, окажусь, только чтобы попасть под раздачу – с отчаянием, свойственным безумию. Мне доставляло странное удовольствие видеть, как всякий раз он захлебывался бешенством, прикусывал губу, шел темными пятнами в лице.
– Добро, Джон, – сказал он, поймав меня на побеге впервые. – Не думаешь же ты так легко отделаться…
И сдал в Холируд обратно – на хлеб и воду, в карцер под слово настоятеля. Но никакое слово не могло удержать меня в четырех стенах, когда оно не было моим собственным.
Он не мог постричь меня в монахи силой, и знал это. Не мог и вытребовать с меня обета – я должен был дать согласие на постриг. Я же согласия на постриг не давал. А он не собирался отказываться от того, чтоб принудить меня. Странное дело, если он не смог сломать меня в первые десять лет жизни, то почему думал, что ему это удастся после десяти? Тогда каждый новый нанесенный им удар противоестественно закалял меня. И даже если он даст свое согласие за меня – и аббат примет его – мне все равно предстоит провести не менее двух лет новицием в ордене… стало быть, мне надо было выиграть время.
Странное дело – в какой-то момент осознать, что твой собственный отец безвозвратно проиграл тебе. Во времени. Он все равно сдохнет первым, если только я не позволю убить себя.
Острая, грубая игра шла между нами. Его задачей было сломать, моей – сопротивляться. Я понимал, как пьянит его возможность причинять боль ребенку, зависящему от него и беззащитному, – причинять законно, быть одобряемым всеми, принимать сочувствие окружающих из-за немыслимой, нехристианской строптивости младшего сына, я понимал это, чувствовал, но не мог остановиться в своем протесте, как не мог перестать дышать. Я и не знаю, чего мне тогда хотелось больше – чтоб он оставил меня в покое или уже убил. В иные дни мне казалось, что в теле не осталось ни единой целой кости. Я больше не прибегал ни к чьей защите сознательно – но только к защите силой своего духа, он же продолжать «учить» меня, когда розгами, когда плетьми, когда кулаком, всякий раз в расплату за новый побег.
– Почтение, – говаривал он при этом, – в тебе маловато почтения к старшим, Джон. А эта добродетель весьма полезна в жизни таким, как ты.
Он мог сказать что угодно, и что угодно сломать мне, но на деле становился смешон и понимал это. А граф Босуэлл не мог позволить себе стать смешным, да вдобавок из-за какого-то сопливого мальчишки. Кто не способен навести порядок в своем доме – не наведет его в стране, правило золотое. Мой упорный протест напрямую угрожал высоте его положения.
Оказавшись в Холируде в третий раз, я отказался не только есть – что было воспринято братией с пониманием – но также и пить. Настоятель велел поить меня силой, не желая брать на душу грех моего самоубийства, и вызвал Босуэлла в Эдинбург.
Шотландия, Эдинбург, францисканское аббатство «Светоч Лотиана», май 1509
Самое близкое – и самое простое. Мог ли я думать тогда, что однажды ввяжусь в кровавый уличный бой, начиная буквально от этих стен? Неисповедимы пути Господни.
Мы стояли лицом к свету – пусть даже огню камина, а за спиной у нас была тьма. И перед нами находился единственный человек, могущий помочь Босуэллу не стать убийцей собственного ребенка, а мне – принять уже то, что отнюдь не все в мире совершается к моему удовольствию и по моей воле.
Читать дальше