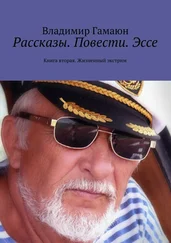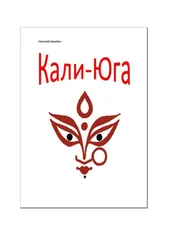— Вчера в театре было как в театре, — сказал Браттке, когда в понедельник обсуждали в институте вечер. — Трагедия для посвященных, с незримым трупом. Властелин может быть доволен: он избавился от вши, сидевшей в волосах. Бедная вошь!
Волна жары и зноя отступала. Солнце, которое уже и видеть не хотелось, затянулось дымкой. Утром южный ветер усилил влажную духоту. Даже дети плохо спали. Одна лишь Элька была бодра.
— Ко всему привыкаешь, — говорила она в ответ на жалобы.
Фриц не мог не выполнить просьбу отвезти брата и невестку в Берлин. С недавних пор он обзавелся старой машиной для своих поездок на выходные дни. На сей раз он тоже уехал в пятницу вечером, но в воскресенье днем вернулся. Он давно заказал на доклад брата два билета, дурашливо осклабившись при удивленном вопросе Эльки: «Два?». В его машине сквозило и грохотало. В ней не потеешь, но разговаривать не удается, можно только перекрикиваться.
В театре Фриц волновался больше, чем брат. Он бегал и искал повсюду особу, объявленную им спутницей, и забыл даже пожелать брату удачи. Тот и не заметил этого. Его занимали другие проблемы. Во-первых, пробиться в театр! При входе его не пропустили, потому что у него не было билетов, а сказать «Я докладчик!» он не мог. За дело взялась Элька, ввергнув его в смущение, ибо заговорила она не шепотом, а полным голосом, так что все вокруг слышали и оглядывались на него. Найдя служебный вход, Элька вняла просьбе мужа и оставила его одного. Ему не хотелось, чтобы она присутствовала при встрече с Менцелем, которую он представлял себе ледяной.
Но он снова ошибся в профессоре. Он ожидал, что натолкнется на высокомерие, но никак не на сердечность. Профессор же, представляя Пётча работникам театра, лучился ею. Он спросил, очень ли волнуется Пётч, предложил коньяку и не преминул осведомиться о мнимой прапраправнучке виновника торжества.
Алкоголь сразу ударил Пётчу в голову. От жары, которая в маленьком помещении за сценой была еще сильнее, чем на улице, у него пересохло во рту, он насквозь пропотел. Он стоял на дрожащих ногах, прислонившись к стене, не в силах следить за разговорами об освещении, управлении занавесом и проекционном изображении. Потом работники театра ушли. На несколько минут он остался наедине с профессором.
— Можешь мне не говорить, каково у тебя на душе, — сказал Менцель, вытирая платком лицо. — В одном отношении я чувствую себя так же, как ты: как и ты, я должен демонстрировать сейчас публике единодушие со своим противником (как это повседневно бывает в браке и государственных делах). Но в остальном тебе, конечно, намного хуже. После проигрыша подпольных битв ты должен решить, нападать на меня публично или нет. Такие решения даются нелегко. Если бы ты спросил моего совета, я бы сказал: оставь, ты ведь только проиграешь. Дураки в зале все равно не поймут, чего ты хочешь. А между нами все будет кончено. Ты, конечно, очень зол на меня. Я был суров с тобой, но иначе нельзя. Я говорил не со злым умыслом, а серьезно, очень серьезно. Ты носишься с фантомом, считая, насколько я тебя знаю, будто это и есть правда. Для меня же дело заключено в большем: останусь я или не останусь в науке и в памяти потомков. Посадив Шведенова на почетное место, я обеспечил себе почетное место в истории историографии. Я поседел за этой работой, и вот приходишь ты из своей деревни и хочешь разбить все вдребезги (охотно верю — без дурных намерений). Так пойми же: я не остановлюсь ни перед какими средствами, чтобы помешать тебе в этом.
Последние слова профессор проговорил очень быстро, так как их уже звали. Занавес был поднят. Пора было идти на сцену.
В первые минуты выступления сознание Пётча функционировало не полностью. Он, правда, чувствовал, что у него дрожат руки, рубашка прилипла к спине, но он не слышал ни слова из вступительной речи Менцеля, да и собственные начальные фразы не мог потом вспомнить. Первое, что он заметил, — он читал очень громко. Но читал он гладко и не слишком быстро, это его успокоило, и он отваживался время от времени поднимать глаза от рукописи. Из темноты стали выступать лица. Он видел, как вытирали платками вспотевшие лбы. Его радовала тишина в зале как свидетельство внимания слушателей.
Он читал механически и мог даже думать о посторонних вещах, причем так ясно и остро, как ему никогда больше не дано будет. Он вдруг понял, почему профессор пытался скрыть его изыскания: книга Менцеля не только по фактам оказалась бы устаревшей еще до своего появления — если верны утверждения Пётча, рухнет вся ее концепция, поскольку развеется миф об образце героической жизни.
Читать дальше

![Виктор Пелевин - Все повести и эссе [авторский сборник]](/books/34745/viktor-pelevin-vse-povesti-i-esse-avtorskij-sborn-thumb.webp)