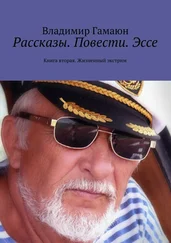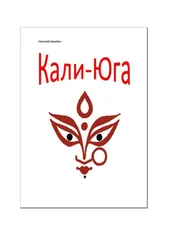«Дражайший друг! Не сердитесь, не бушуйте… Друг ваш не вероломен, просто уже три недели он пластом лежит на спине… переменить позу невозможно… обызвествление в тазобедренной области… задеты самые благородные органы… позывы на мочеиспускание… Переутомился, слишком много сидел… надо купить верховую лошадь… Боже праведный, вот будет зрелище!»
И полукругом на уровне головы малыша всадника надпись, будто тяжкий вздох: «Донеси, господи, до Тиргартена».
Крошка Цахес с лицом самого Гофмана.
Внешние обстоятельства восстановить нетрудно: врач Гофмана — предположительно это был тайный обер-медицинальрат К. А. В. Берендс, директор клиники Берлинского университета, — не рекомендовал своему замученному расстройством пищеварения, циррозом печени и опухолью паховых желез пациенту вести сидячий образ жизни и советовал побольше двигаться, скажем ездить верхом, в ответ на что Гофман и набросал автопортрет верхом на лошади, в сапогах со шпорами, где, как и на всех его автокарикатурах, прежде всего бросается в глаза острый, резко загнутый книзу нос и острый, сильно загнутый вверх подбородок — линии, мысленное продолжение которых образует косой овал. В галерее шаржей, вышедших из-под пера Гофмана, мы снова видим этот профиль у двух персонажей: у капельмейстера Крейслера, что не вызывает удивления, ибо писатель считал его своей точной копией, и — у крошки Цахеса. Ведь, будучи весьма одаренным графиком, Гофман снабдил переплет книжного издания рисунком: фея Розабельверде ласкает Циннобера, и уродец у нее на коленях — если не считать волнистых волос — явно походит на своего создателя. Он не гном-альраун, а истерзанный интеллектуал, и как же он напоминает самого писателя — те же глаза, нос, подбородок, даже волосы, названные в сказке «черными» и «спутанными», были бы похожи, если б фея их не расчесала. «Портрет Циннобера на переплете весьма удачен, ведь коли уж никто, кроме меня, не мог увидеть этого крошку, то я и подготовил рисунок», — писал Гофман князю Герману фон Пюклеру, высылая книгу ему в подарок. Эта фраза, которую до сих пор воспринимали всего лишь как забавную шутку, свидетельствует о большем, чем кажется тому, кто ищет только ключевые фигуры. А как этот человечек выглядит верхом на коне, читатель вполне может себе представить и по рисунку Гофмана, и по насмешливому замечанию Фабиана в сказке:
«Но скажи, пожалуйста, пристало ли такому горбатому карапузу взгромождаться на лошадь, из-за шеи которой он едва выглядывает? Пристало ли ему влезать своими ножонками в такие чертовски широкие ботфорты? …мне надобно воротиться в город, я должен поглядеть, как этот рыцарственный студиозус въедет на своем гордом коне в Керепес и какая поднимется там кутерьма!»
Это же Гофман, направляющийся верхом в Тиргартен.
Но что же — так можно бы вернуться к нашим изначальным сомнениям, — что же мы выиграем, если в итоге примем на веру, что в образе уродца Цахеса Гофман изобразил самого себя, хотя вовсе не обязательно отдавал себе в этом отчет? Пожалуй, выиграем, притом кое-что существенное: возможность переосмысления, открывающуюся уже в том, что ее вообще полагают здесь вероятной. Рутина традиционной эстетики все время поддерживает в нас стремление к самообману, к попыткам отождествлять себя с литературными героями лишь в положительном; эта эстетика предложила бы нам Бальтазара. Следовало бы рассеять это заблуждение, тогда небывалая победа реалистического мышления над повседневным тщеславием откроет внимательному читателю Цахеса, скрытого в нем самом.
Понимание этого, или хотя бы искренняя готовность к пониманию, поможет одолеть и другую трудность, возникающую в связи с распространенным взглядом, который толкует сказку о Цахесе как «развенчание феодализма». Что мы выиграем, приняв эту точку зрения? Безусловно (давайте пока отвлечемся от избитой терминологии, которая любой дворянский атрибут отождествляет с «феодализмом», как будто мы вправду погрязли в феодальном болоте), безусловно, повесть содержит также и элементы иронической критики по адресу карликового двора, такая критика непременно обнаруживается, когда писатель, хотя бы и средний, помещает своих героев в придворное окружение, но дело-то в том, что элементы этой критики присутствуют в рассказе лишь также, и поспешный вывод, что суть сказки кроется именно здесь, образует столь же серьезное препятствие, как и суждение о Цахесе по его прообразу, карлику-студенту. Как же представить себе конкретно Цахесову карьеру? Допустим, что критика обращена против приписания всех социальных заслуг одной-единственной персоне в силу ее общественного положения (такой лестью маскируется, к примеру, Проспер Альпанус, когда берется доказывать, что «без соизволенья князя не может быть ни грома, ни молнии и что если у нас хорошая погода и отличный урожай, то сим мы обязаны единственно лишь непомерным трудам князя и благородных господ»), но это допущение не совпадает с фабулой сказки, и, делая его, мы совершаем грубейший промах, точь-в-точь как Гофман на охоте: рана должна быть с кулак, а на деле — всего несколько следов от дроби на шее.
Читать дальше

![Виктор Пелевин - Все повести и эссе [авторский сборник]](/books/34745/viktor-pelevin-vse-povesti-i-esse-avtorskij-sborn-thumb.webp)