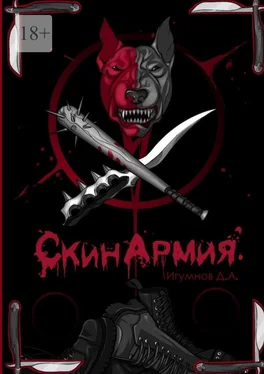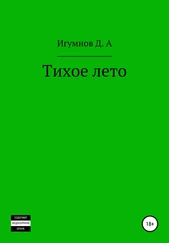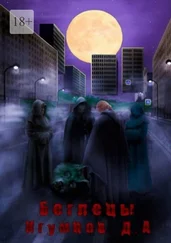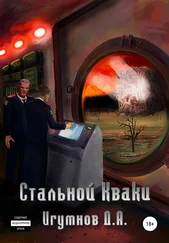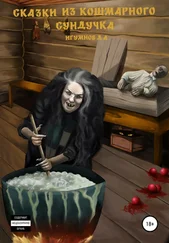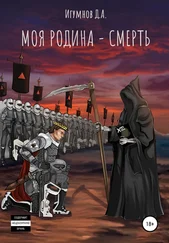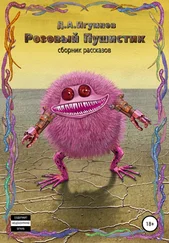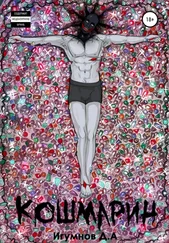– А хорошее? Ведь хорошего же было больше, Паша!
– Чего хорошего? Ты вон до сих пор в малолитражной хрущобе живёшь. Ни машины, ни дачи. Да и вообще…
– Нам с тобой дали бесплатное образование, медицинское обслуживание, счастливое детство. Или не так?
– Такая медицина и у них бесплатная.
– Ты ещё про пиво баварское скажи, которое мы бы пили, если бы немец победил. Всё, о чём ты говоришь, есть всего лишь временные трудности. Будущее за Россией, за обществом достижений, а не потребления. Ну ты сам подумай: какой смысл в бесконечном накоплении денег? Зачем? Жить для того, чтобы жрать? Оценивать человека по толщине его кошелька? Нет, не для русских это. Мы живём мечтой о всеобщем благоденствии, торжестве духа над слепой и жадной материей. А исключения лишь подтверждают правила.
– Сколько лет я тебя знаю, не перестаю удивляться твоей наивности. Люди только о себе заботятся, никто за других лоб подставлять не собирается.
– Посмотрим, история нас рассудит. Россия станет первой державой мира и объединит его в единое целое, сотрёт границы и создаст мировую республику. И не как тиран, указывающий – что делать, а как первопроходец, на своём примере показывающий правильность выбранного нами пути. Понимаешь?.. Ну что, на посошок?
– Давай. Тебя не переспоришь.
Они разлили остатки водки и, морщась от специфического неприятного вкуса спирта, выпили. После чего попрощались, и Паша пошёл к себе домой, благо его квартира находилась в этом же подъезде, только тремя этажами выше. Пётр же, проводив друга до лифта, ещё немного потоптался на месте и зашаркал вниз. Выйдя из подъезда, он очутился внутри противной мороси дождя конца октября. Начинало темнеть, а ему ещё надо было добираться до дома на автобусе не меньше получаса.
Пётр Георгиевич Царёв, прибывая в состоянии приятного лёгкого подпития, неспеша пошёл к остановке. Завернул за угол: уже на подходе к подземному переходу ему навстречу вырулили из сумерек пять тёмных фигур, похожих друг на друга, как близнецы-братья. Одетые в короткие куртки, чёрные брюки, блестящие ботинки на плоской подошве, от души надушенные, они шли, занимая всю ширину проулка. Проходя мимо, один из них толкнул Петра Георгиевича локтем в плечо. Случайно. Прохожий повернулся к своему спутнику, хотел что-то сказать и просто не заметил инженера. Натолкнувшись на Царёва, мужчина остановился и с заметным кавказским акцентом, раздражённо процедил сквозь зубы:
– Эй, смотры куда прёшь.
– Так это вы меня толкнули, – не подумав, сказал в пьяной запальчивости инженер.
– Чтооо? Что ты сказал, баран рюсский?
Дальше началось избиение. Бам, бам… бам! У инженера потемнело в глазах, а в голове захрустели синие вспышки молний, он проспал первую пару ударов и потом пропустил ещё один по печени. Не удивительно, драться он никогда не умел, и защищать себя ему последний раз приходилось в восьмом классе. Кавказцы, больше не говоря ни слова, ещё двумя сильными ударами свалили его на землю и около пяти минут с редкостным остервенением втаптывали в податливую, ставшую влажной от ежедневных дождей последней недели, чёрную качественную отечественную грязь.
Царёв умер не сразу, хотя сознание потерял уже где-то на десятой секунде избиения. Его мозг слабо светился угасающей жизнью ещё долгих десять часов. На тело, лежащее на земле, около кустов, никто не обращал внимания до самого утра. Люди проходили мимо, оправдывая своё бездушие тем, что пьяницам всё нипочём; ничего с алкашом не случится, а они спешат домой – им некогда.
В справке о смерти, выданной через три дня его жене Людмиле, было написано, что смерть наступила в результате перелома основания черепа и обширного кровоизлияния в мозг. А проще говоря, её мужу мозги наружу выпустили. Так внезапно она – жена и мать, лишилась кормильца и осталась с тринадцатилетним мальчиком Глебом на руках.
Убийц так и не нашли, хотя через два дня на ближайшем от места происшествия рынке милиция задержала двоих из тех, кто участвовал в избиении Петра Георгиевича. Вроде как и дело завели, но потом, всего через неделю после начала следствия, дело закрыли и убийцы вышли на свободу, за недостаточностью улик…
В непроглядной угольной темноте стоял одинокий фонарь, причудливо подстраивающийся под пародию на аутентичную вещь середины девятнадцатого века. Фонарь излучал тёплый, манящий, своей непорочной чистотой, девственно белый свет. Глеб тянулся к нему, вытягивался, удлинялся и всё никак не мог прикоснуться к источнику света. И дойти до него он тоже не мог. Его не пускала густая кровавая трясина, животной страстной вульвой засосавшая в себя Глеба уже по пояс. Оплетая тело коричневыми жгутами, Глеба тащило вниз, всё далее отдаляя, уводя его от света. Он не мог идти и болезненно переживал то, что он никогда не взлетит, как Икар, и не сможет со спокойным сердцем сгореть в электрическом пламени фонаря. Единственная альтернатива – это ползти, ползти по грязи и достичь, добиться, поселиться… но уже не в свете, а во тьме. А Глеб ужасно не хотел становиться червём или змеёй, но другого выхода кроме смерти он не видел. Постепенно трясина побеждает, поднимается к горлу, душит, душит, наползает на лицо и блаженный желанный свет меркнет…
Читать дальше