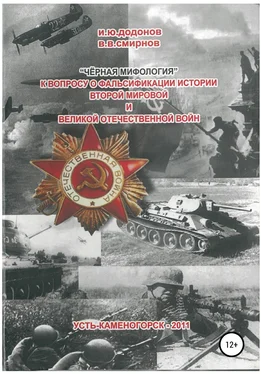Получается, что в середине 30-х годов (речь в приведенном отрывке идет о маневрах, проходивших в 1935 или 1936 годах) в СССР были дороги, на которых танки БТ могли продемонстрировать свои высокие скоростные качества. И механиков-водителей учили ездить по этим дорогам на колесах с максимальной скоростью. Т.е. тезис Резуна о том, что на советской территории «бэтушки» на колесах не могли использоваться, в принципе, неверен. А значит, существовала возможность применять БТ для обороны (скажем, по «монгольскому» сценарию).
Конечно, возможно. И тогда нашим танкам нужен будет маневр, нужно будет сойти с автострад, вести бой в полевых условиях. Но сделать этого «бэтушки» как раз не смогут, гусениц-то нет, а кругом автострад, увы, не сухая монгольская степь. Во что превращается подобный рейд танков-агрессоров? В методичный отстрел их, как зайцев, вот во что. Поддержать же наши танковые корпуса некому: вокруг сплошные немцы, основные силы РККА далеко позади. Кстати, не ясно, как должны были снабжаться ушедшие вперед танки. Где брать горючее, смазочные материалы, боеприпасы, продовольствие? Танки ведь далеко впереди, ни поддержки, ни снабженья?
Мы вплотную подошли к вопросу использования БТ в наступательной операции. Как она должна выглядеть?
По Резуну так. Красная Армия силами артиллерии, авиации, пехоты, тяжелых и средних танков обеспечивает прорыв фронта противника. БТ во всем этом не участвуют. Эта работа не для них. Но вот фронт прорван. И наступает время танка-агрессора. В образовавшуюся брешь (бреши), как стая гончих, устремляются большие массы БТ. Они громят вражеские тылы, уничтожают базы снабжения, нарушают связь, истребляют незначительные разрозненные силы противника, сеют страх, панику и дезорганизацию. В это время основные силы Красной Армии «доколачивают» противника на фронтах. Делать это становится легче, так как «работа» БТ очень быстро сказывается на снабжении войск противника, подходе к ним подкреплений. Вскоре вражеский фронт разваливается, и масса войск РККА устремляется в глубь территории врага.
Всё великолепно и красиво выглядит. Но, как говорится, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги».
Танк, как правило, действует не сам по себе. Он действует в составе танковых подразделений, частей, соединений. Ясно, что для решения крупных задач нужно использовать именно танковые соединения (они начинаются с уровня бригады). Что ж? Какие проблемы? В составе РККА были и танковые бригады, и танковые дивизии, и танковые корпуса. Советские танковые корпуса Резун иначе и не именует, как «механизмами агрессии» , подобными немецким танковым группам:
«Германия имела мощные механизмы агрессии – танковые группы, Советский Союз имел, в принципе, такие же механизмы агрессии. Разница – в названиях и в количестве: у Гитлера – четыре танковых группы, у Сталина – шестнадцать ударных армий» [82;142]. «Элемент, который превращает обычную армию в ударную, – это механизированный корпус новой организации, в котором по штату положено иметь 1031 танк. Включи один такой корпус в обычную армию, и она по своей ударной мощи сравняется или превзойдет любую германскую танковую группу» [82;141-142]. «Ее (ударной армии – И.Д., В.С.) главный ударный механизм теперь называется не танковым корпусом, а механизированным. Это чтобы лидеры сопредельного дружественного государства не беспокоились» [82; 150].
Почему Резун говорит о механизированных корпусах «новой организации» и о том, что советские «ударные механизмы» стали называться не танковыми, а мехкорпусами, мы уже знаем. Речь тут идет о механизированных корпусах, которые начали создаваться с июня 1940 года. Это как раз и были мехкорпуса «новой организации» . Корпуса старой организации именовались танковыми и были расформированы после освободительного похода в Западную Белоруссию и Западную Украину. Как уже отмечалось, эти корпуса, имевшие 560 танков, состоявшие из двух танковых и одной мотострелковой бригад, в конце 1939 года были признаны громоздкими и трудноуправляемыми, что и решило их судьбу.
Но Резун, упомянув о «новой организации» танковых соединений, о старой вообще молчит, не вдается в подробности и не объясняет, чем они отличаются одна от другой. Излишне говорить, что ни словом не упоминает он и о причинах, по которым понадобилось ломать одну и создавать другую организацию. Не будем оригинальны, когда вновь скажем: подобные подробности Резуну невыгодны. Дело в том, что механизированные корпуса «новой организации» не очень подходят для осуществления на практике той картины советского вторжения, которую нарисовал Резун.
Читать дальше