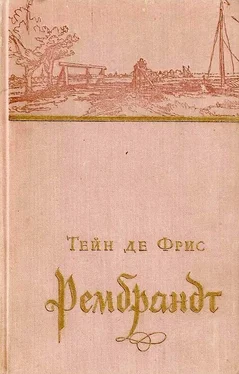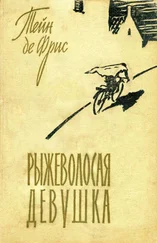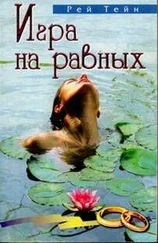Этот гость никогда не замечал Хендрикье, а если случалось, что не мог ее обойти, он обращался с ней, как с незнакомой ему служанкой. Когда он уходил, она всегда спрашивала Рембрандта, до чего они договорились. Отец в таких случаях опускал глаза. Видно, ее расспросы были для него мучительны. На этот раз отец тоже промолчал, и оба глубоко вздохнули. Во вздохе Рембрандта слышались добродушная насмешка и покорность; во вздохе Хендрикье — мягкий упрек и подавленный страх.
Титус любил играть на полу. В комнате были таинственные темные углы, где легко вообразить себе всякие чудеса; можно также ползать под столами и стульями, будто в крошечном мирке рвов и крепостных стен; огромный ковер был озером или пастбищем, а темные рисунки на ковре — мостами или каналами, как придется. Титус отличался буйной фантазией, в играх ему не надо было ни сверстников, ни игрушек; он один неограниченно властвовал в этом царстве грез. Но не только поэтому любил он играть на полу. Здесь особенно удобно слушать разговоры взрослых. Его совсем не интересовало, о чем они говорят; ведь он лишь смутно, а то и совсем не понимал смысла их речей. Но ему нравился серьезный тон их, пленяла загадочность трудных и значительных слов, которые неожиданно выделялись на фоне непонятного и однообразного разговора. Взрослые жили в совершенно другом мире, далеком и заманчивом, притягивавшем к себе Титуса. Поэтому слушать эти разговоры было для него тайным торжеством. Часто после посещений Сикса мальчик слышал тихую и озабоченную беседу и жалобы родителей, чувствовал их тревогу и беспокойство, которые растворялись в заботах повседневной жизни.
— Когда он требует деньги?
Рембрандт чаще всего отвечает неохотно:
— Деньги! Да деньги я ему отдам! Он только не желает знать никаких отсрочек, вот в чем дело… Всем дает отсрочку, только не мне! Меня он преследует по пятам. Меня…
Хендрикье мягко увещевает:
— Но зачем же ты тянешь, Рембрандт… И зачем ты накупаешь всякой всячины на скопленные деньги?
Отец сердится:
— А другие разве так не делают? Разве не покупает вещи ван дер Гельст или Рейсдаль? Почему им можно, а мне нельзя? Неужели я хуже их? А если у меня водятся деньги, разве могу я спокойно смотреть, как нуждается Сегерс только потому, что дураки вообразили, будто Гоббема пишет ландшафты лучше, чем он?
— Да если бы я уступил Сиксу, — озабоченно продолжает отец со скрытым ожесточением в голосе, — мне пришлось бы продать все, что я имею. Не могу же я в самом деле работать день и ночь напролет только ради того, чтобы выплатить ему долг? Ведь мы договорились, что я буду погашать долг в течение нескольких лет… У Клеменса большой запас оттисков с моих гравюр, но о них вот ни слуху ни духу… В книге у меня значатся еще десятки неоплаченных картин… Все задерживают деньги. Все просят отсрочки. А наше с тобой благополучие зависит от того, будет у нас на сто гульденов больше или меньше. Вечная нужда в деньгах… Не то было прежде…
Невидимые нити по-прежнему тянутся в город из дома Рембрандта во всех направлениях, приводят в самые неожиданные места. Эти нити ведут в светлую, пахнущую мятой аптеку Абрахама Францена, который неутомимо помогает Рембрандту советами, хотя тот не обращает на них ни малейшего внимания; эти нити ведут на Бреестраат, к раввинам, которые, смочив волосы мускусом и облачившись в шелковые молитвенные одежды, читают книгу пророка Захарии или толкуют талмуд; эти нити ведут в убогие комнатушки в Флойенбюрхе, где ютятся ученики раввинов, натурщики Рембрандта; в тесные, невзрачные домишки, где мелкие торговцы, как Иеремия де Деккер, например, тайно пишут стихи и каллиграф Коппеноль за жалкие гроши продает свое искусство; и в центр города тянутся нити, туда, где продувные скупщики картин ожидают заката рембрандтовской славы, чтобы заплатить ему как можно меньше; нити ведут и в дворцы на Кейзерсграхте, к жилищам могущественных заимодавцев — Хармена Беккера, Херстбеека и других, с которыми художник опрометчиво связал себя в момент острой нужды в деньгах; нити из дома Рембрандта тянутся и к уединенным чердачным каморкам, которых не знают скупщики картин, где полуслепые старики с дрожащими руками сидят, сгорбившись над гравировальными досками, чтобы в линиях запечатлеть мечту клонящейся к закату жизни. Через весь шумный лабиринт амстердамских улиц протягиваются тайные нити, незримые посланцы дурных и добрых чувств; а тот, к кому сбегаются все эти нити, едва удостаивает их вниманием, запирается в своей мастерской и читает евангелие. Он знает, что отрешится от всего, как только возьмет в руки острую гравировальную иглу и пузырек с едкой кислотой: стоит ему приняться за работу, которая поможет ему разделаться с вечными долгами, и за этой работой он позабудет о долгах…
Читать дальше