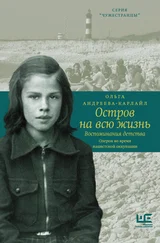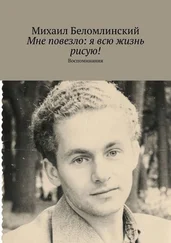В отличие от мальчиков, девочки Сен-Дени меня пугали. Сильные и мускулистые, они одевались при этом, как маленькие женщины, – в сатиновые черные блузы, длинные шерстяные чулки с металлическими зажимами и деревянные гремящие сабо. Они были полны презрения к парижанкам, вторгшимся в их мир в начале войны. Поведение их было внешне более сдержанным, чем у мальчиков, но под этой видимостью скрывалась неприязнь столь же необузданная, как пронзительный тембр их голосов. Если они приходили в возбуждение, то не гнушались грубых слов и выкрикивали их так громко, что в ушах звенело. Они отпускали непристойные шуточки, но я их не понимала. Они шептались между собой и прикрывали рот рукой, когда смеялись. Одни учились очень хорошо, другие были почти неграмотны, однако же все умели доить коров, чистить рыбу или свернуть шею курице.
Попав в их компанию, я обратила внимание, что у меня единственной под белой блузкой и плиссированной юбкой нет ни нижней юбки, ни комбинации. Самодельная нижняя юбка из грубого льна была частью обычной одежды крестьянских девочек и считалась, как мне казалось, символом благопристойности. Я же никогда не носила ничего подобного. Под темно-синей юбкой были только белые хлопчатобумажные трикотажные трусы. В первые дни это произвело в классе настоящую сенсацию. У меня был выбор: либо убедить маму сшить мне нижнюю юбку, либо оставить все как есть. Я выбрала последнее, твердо заявив, что нижние юбки громоздкие и в них неудобно. Некоторое время после этого я ужасно мучилась, мне представлялось, что я – как тот маленький спартанец, спрятавший лисенка под рубашкой [41]. Но потом девочки в Сен-Дени начали просить у матерей позволения ходить в школу без нижних юбок. Время сделало свое дело, и в конце концов две-три мои одноклассницы стали моими близкими подругами, но для этого понадобилась целая вечность.
Я не очень хорошо помню, как наши летние гости уехали с острова. Но зато помню, как еще до того, как погода испортилась, немцы выпустили приказ: все, кто не живет на Олероне постоянно, должны уехать – остров войдет в военную запретную зону, и въезд будет только по пропускам. Поскольку мы приехали еще в прошлом году, нас сочли жителями острова, но Клара должна была попросить в комендатуре разрешения остаться. Полковник Шмидт принял ее лично. Она объяснила ему, что мы – ее приемная семья, и во Франции у нее нет других родственников. Он тут же в своем роскошном кабинете позади виллы “Адриана” подписал ей разрешение остаться – в виде исключения, разумеется.
По возвращении Клара подтвердила, что то, о чем говорили в деревне, – правда. Полковник Шмидт “чрезвычайно учтив”, не может быть, чтобы он был нацистом. Между ними установилось взаимопонимание. Он расспросил ее о нашей семье, она выкрутилась блестяще. Она сказала, что мы – белые эмигранты, живущие во Франции с начала двадцатых годов, что бабушка была настоящей “гранд-дамой”, но потеряла все в революцию, и что наша семья – рьяные приверженцы монархии, годами питавшие надежду на возвращение Романовых в Россию. Полковник отнесся благосклонно.
Отец в шутку спросил, не пора ли уже нам повесить портрет покойного царя Николая в столовой дома Ардебер. Расхохотались все, кроме бабушки, которая, будучи старой революционеркой, возмущенно воскликнула: “Никогда!” Но тому, что Клара и Поль останутся с нами, она радовалась больше всех.
В конце лета 1940 года Федотовы отбыли в Соединенные Штаты, а супруги Калита, Мартены и их окружение, к большому сожалению Клары, уехали в Париж. В связи с этим бабушка временами говорила, что неплохо было бы и нам получить американскую визу. Мечта ее оказалась заразительной – я начала представлять себе, как мы прибываем на борту прославленной “Нормандии” в новую страну, в которой нет ни немцев, ни причин для страха.
Довольно скоро бабушка смирилась со своей судьбой. Она больше, чем кто-либо из обитателей дома Ардебер, старалась скрасить нашу повседневную жизнь. Она научилась с одной лишь щепоткой сахара варить вкусный джем из винограда под названием raisiné [42]. Вспомнив непростые дни, пережитые в России во время революции, она вместе с Чернушками занялась сбором и сушкой грибов – мы всю осень ходили за ними в лес.
Когда наступил сезон сбора винограда, старшие дети иногда присоединялись к работе. Для меня самой приятной частью этого была дорога от Сен-Дени до виноградников. Телега, запряженная лошадью, ехала медленно; на деревянных бочках, в которых виноград отвозили обратно в деревню, можно было сидеть и смотреть по сторонам с высоты. Наблюдательный пункт шатался, но с него открывался поразительный вид – старые мельницы на горизонте казались часовыми, охранявшими море, серебряная лента дороги уходила на юг в Шере, туда, где остров расширялся. В ясный и ветреный день на горизонте можно было разглядеть величественные вязы около дома Жюльена.
Читать дальше
![Ольга Андреева-Карлайл Остров на всю жизнь. Воспоминания детства. Олерон во время нацистской оккупации [litres] обложка книги](/books/435819/olga-andreeva-cover.webp)




![Дипак Чопра - Сила внутри тебя [Как «перезагрузить» свою иммунную систему и сохранить здоровье на всю жизнь] [litres]](/books/405248/dipak-chopra-sila-vnutri-tebya-kak-perezagruzit-thumb.webp)