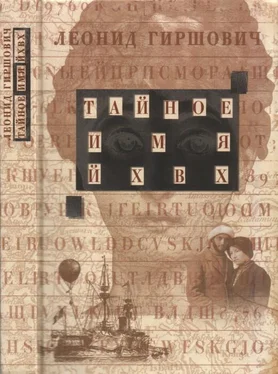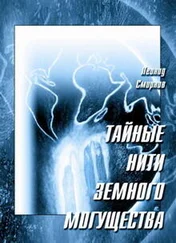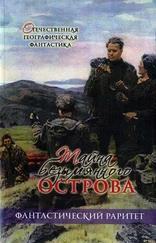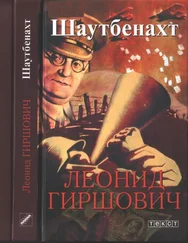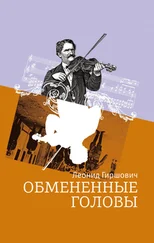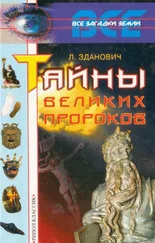Весь эпизод отсылает к тетралогии Р. Вагнера «Кольцо нибелунга». Лизнув крови убитого им Змея Горыныча, Зигфрид начинает понимать, о чем щебечет птичка. Неловкая попытка вырезать свирель. Вслед за порхающей птичкой Зигфрид карабкается в гору. Там за завесой огня возлежит спящая валькирия.
«Блажен, кто отыскал разрыв-траву» — Илья Рубин (1941–1977), «Оглянись в слезах», Иерусалим, 1977.
Блажен, кто отыскал разрыв-траву
Кто позабыл сожженную Москву,
Когда вослед листкам Растопчина
Взметнулась желтым пламенем она…
Над нами небо — голубым горбом.
За нами память — соляным столбом.
Белый англо-саксонский протестант.
«Carmina burana» («Из поэзии вагантов») в переводе Льва Гинзбурга.
«Попробую написать Aronson’y, не вышлет ли двузернянку», — пишет будущий академик Вавилов сестре Катерине. (Цит. по публикации С. Резника «Эта короткая жизнь» в сетевом журнале «7 искусств».
Объявлению Россией войны Оттоманской империи, тогда еще нейтральной, предшествовало потопление турками двух российских кораблей, стоявших на рейде в одесской гавани и в Севастополе, который к тому же подвергся бомбардировке. Надежды союзников на нейтралитет Турции в войне не оправдались.
За одну чахоточную художницу — имеется в виду Ира Ян (Эсфирь Слепян, 1869–1919), ученица В. Поленова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, с 1908 г. жила в Иерусалиме, участвовала в еврейских периодических изданиях, иллюстрировала книги, состояла членом художнической коммуны «Новый Иерусалим», преподавала в художественной школе «Бецалель». В начале войны была выслана в Александрию. В Палестину вернулась смертельно больная. Возлюбленная Х.-Н. Бялика, который будет похоронен поблизости от нее на бывшем Холерном кладбище на окраине Яффы — ныне кладбище на улице Трумпельдора в центре Тель-Авива. Там же похоронены М. Нордау, X. Арлозоров, М. Брод, М. Дизенгоф и многие другие, давшие улицам израильских городов свои имена.

Художническая коммуна «Новый Иерусалим».
Внизу слева Ира Ян (1908)
Впоследствии капелла, разучивавшая под управлением Идо Ковальски пьесу «Дай бахан» — «Паровоз, паровоз, ты куда нас завез?», — угодила в лапы одного из племенных царьков на восставшем Юге. Об этих бедолагах читаем в мемуарах известного британского разведчика:
«Мы поджидали его во дворе на ступеньках крыльца (его — Абдуллу ибн Хуссейна, будущего короля вновь созданного Иорданского королевства; убит агентом Великого муфтия Аль-Хуссейни на Храмовой горе в 1951 г. в преддверии секретных переговоров с Израилем). За ним следовала блестящая свита из слуг и рабов, дальше тащилась группа бледных, изможденных бородачей со скорбными лицами, одетых в лохмотья военной формы и влачивших потускневшие медные духовые инструменты. Абдулла махнул рукой в их сторону и с гордостью объявил: „Мой оркестр“. Музыкантов усадили на лавки во дворе, Уилсон послал им сигарет, а мы тем временем поднялись в столовую, балконная дверь которой была жадно распахнута навстречу морскому бризу. Пока мы рассаживались, оркестр под дулами ружей и саблями слуг Абдуллы грянул вразнобой душераздирающую турецкую мелодию. Уши у нас заложило от этого шума, но Абдулла сиял.
Устав от турецкой музыки, мы спросили, нельзя ли сыграть что-нибудь иностранное. В ответ на это они оглушительно грянули гимн „Германия превыше всего“.
— Похоронный марш, — заметил Сайед Али, повернувшись к Абдулле. У того расширились глаза, но Сторс, стремительно вступивший в разговор, чтобы спасти ситуацию, обратил все в забавную шутку. И мы отослали печальным музыкантам остатки наших яств вместе с изъявлениями восхищения, что не принесло им большой радости; они умоляли поскорее отправить их домой». (Сам Ковальский, счастливо избежавший судьбы своих подопечных, прожил мафусаилов век. Мы встречали тех, кто в начале 60-х еще работал с ним в иерусалимской академии Рубина.)
« Mondscheinsonate » — «Лунная соната», « Lied ohne Worte » — «Песня без слов», « Fogel als Prophet » — «Вещая птица».
«Марсель Пруст рассказывает, как одна герцогиня слушала музыку. Герцогиня была очень гордая, какой-то невероятно голубой крови. Бурбонская, брабантская или еще того выше. Как-то случайно она забрела на раут к бедной родственнице, захудалой виконтессе с каким-то изъяном в гербе. Концерт, однако, был хорош. Дамы слушали Шопена, покачивая в такт прическами и веерами. Перед герцогиней встала проблема: отбивать ли ей веером такт, как это делали соседки, или нет, не слишком ли жирно будет для музыканта такое необузданное одобрение с ее стороны? И вот голубая особа блестяще вышла из затруднения: она привела в движение свою черепаховую штучку, но не в такт исполняемой музыки, вразнобой — для независимости» (О. Мандельштам, «Веер герцогини»). «…То отбивая веером в течение нескольких мгновений такт, но — чтобы подчеркнуть свою независимость — такт, не совпадавший с тактом пианиста. Когда пианист закончил пьесу Листа и начал прелюд Шопена…» (М. Пруст, «Любовь Свана». Пер. А. Франковского.)
Читать дальше