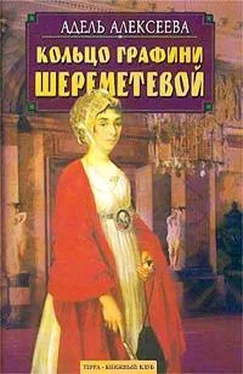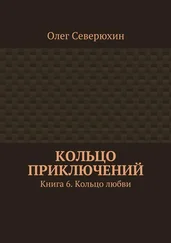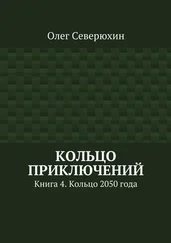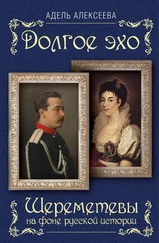У ворот князь осадил лошадей, взял пострадавшую на руки и понёс к крыльцу. Глаза его, весёлые, чёрные, неотступно смотрели на неё, но и она, отчего-то забыв о боли, не могла отвести от него взгляда, будто заворожённая. Вот он ласково улыбнулся, явно любуясь её нежным румянцем, серьёзными серыми глазами, лицом, окаймлённым серебристым платком с чёрной полосой, слегка прижал к себе и коснулся губами её пальцев. От рук его исходил некий жар, и впервые почувствовала Наталья истинно мужскую силу. Она смутилась, заалела и, смущённая его смелостью, вспыхнула, вскинув густые тёмные, словно бабочки, ресницы...
А в доме продолжалась хлопотня, слуги голосили, толклись в сенях; сверху по лестнице, шурша юбками и ворча, спускалась Марья Ивановна, Дуняша охала про себя.
По-хозяйски ощупав ногу, Марья Ивановна послала за лекарем, однако особого сочувствия не выказала, а вместо этого принялась распекать внучку:
— Виданное ли дело? Эко! — убежала не спросясь, укатила неведомо куда... Вот тебя и наказал Господь!
Потом обратила внимание на офицера, спросила: кто таков?
Князь представился, выражение лица бабушки изменилось.
— Неужто Долгорукий князь? Так вот ты каков, батюшка? Хорош! — Она оглядела его: — Знавала я одного Долгорукого, да и прочих тоже... А молодого князя в первый раз вижу... Мерси тебе за Натальюшку... А князю Василию кланяйся от меня.
— Благодарствую! — поклонился он. Щёлкнув каблуками и бросив ещё раз взгляд на юную графиню, удалился.
Вместе с креслом, в котором она сидела, Наталью подняли наверх, в бабушкину комнату. Явившийся туда лекарь осмотрел ногу и объявил, что сие есть растяг, надобны покой и холод. После тех процедур беглянку покормили, и бабушка велела всем выйти.
— Оставьте меня с внукой одну... — сказала.
В доме стало тихо, лишь позвякивали старинные, с петухом часы.
Любила Наталья бабушкину комнату, тут было уютно, всё дышало стариной — сундучки, рундуки боярские, шкатулки, пяльцы, вышиванье на резном столике, парчовые нити... Руки её всегда чем-нибудь были заняты. Вот и теперь вынула тонкий шёлк, пяльцы, иглу и принялась вышивать «воздух» — пелену, вклад свой в Богородицкий монастырь. Монастырь этот с давних пор опекали Шереметевы. Внучка лежала на диване кожаного покрытия, а бабушка восседала в кресле с львиными головами. Прежде чем взяться за иголку, достала табакерку, взяла щепотку табаку, нюхнула, с чувством чихнула и, высоко откинув голову, произнесла:
— Отменный молодой князь Иван Долгорукий... Глаза крупные, огненные, только рот мал — как у девицы... А всё же таки есть в нём что-то от старого знакомого моего Якова Долгорукого.
Наталья, которая всё ещё была под впечатлением случившегося, ждала, что бабушка скажет что-то ещё о молодом Долгоруком, но у той были свои резоны обращаться к сей фамилии, и резоны тайные. Она продолжала:
— Знатный был человек дядя его!.. Ходил статно, как истинный боярин, но бороду сбрил рано, ещё до повеления царя Петра. Держал себя как гость иноземный, а сколь подвержен придворному этикету! Ручку поцеловать али цветок поднести! — это пожалте... Ежели кто говорит, никогда не перебьёт... Истинный талант!.. — Лицо Марьи Ивановны посветлело. — А красоту как любил! Помню, приехал к нам в Фили, к зятю моему .Льву Кирилловичу Нарышкину, — в аккурат кончили тогда храм строить. Уж как любовался той церковью, как хвалил, даже на колени пред нею опустился и землю поцеловал...
Наталья слушала бабушку, а виделись ей чёрные ласковые глаза, сухие и горячие руки, и словно чувствовала жар, исходящий от них.
— Дай Бог, чтоб Иван Алексеевич хоть малость взял от Якова Фёдоровича, сродника своего! — вздохнула Марья Ивановна. — Боярд был Яков Фёдорович! Самому Петру противоборство оказывал, воле его перечил, ежели то к пользе народной, ежели интересам государевым резон... Бывало, вкруг Петра одни похвальные вопли стоят, а он, Яков Фёдорович, своё: не можно, мол, такой указ подписывать, да и всё тут! Или просто в молчании пребывает. Когда дело царевича Алексея разбирали — он напрямую сказал: не можно царевича судить, Русь стояла и стоит на древних обычаях, и в одночасье их не изменишь. Не можно топором рубить, лучше ослабу дать, да и покончить со всеми розысками... Он и в Париже, и в Варшаве живал, а расцветал, сказывал мне, только в Москве... — «Воздух» и пяльцы лежали недвижимо на коленях.
Глядя на посветлевшее, помолодевшее лицо бабушки, Наталья вдруг догадалась:
— Да ты любила его, бабушка! Вправду любила?
Читать дальше