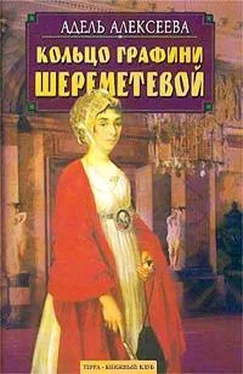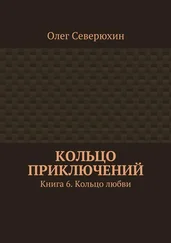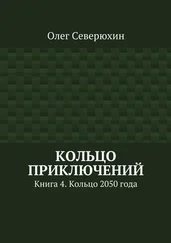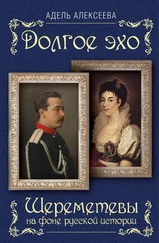Сгорбленная Лопухина и царствующий внук, сопровождаемые свитой, появились в воротах.
По Девичьему полю разносится ликование, и взгляды всех устремляются к ладной, высокой фигуре государя, к его румяному и строгому лицу, несущему высокую печать. Мало кому заметно, что в нём сквозит и скрытая печаль, но Наталья Шереметева замечает это. Юный, почти мальчик — и на голову его обрушилась такая власть! Бедный! Каково держать скипетр сей великой державы?.. К тому же сирота, ни отца, ни матушки, как и у неё, — ни пожалуешься, ни возьмёшь совета... Нынче радость вокруг него, опьянение, а что будет завтра?..
В свите государя знакомые лица: Черкасский, Остерман, Юсупов, Толстой, Долгоруков... А это? Ах, да это же Иван Алексеевич!.. В парадном мундире... Лицо и пылкое, и озабоченное... Ах, не заметил бы, что глядит на него во все глаза! Наталья спряталась за чью-то спину, но, похоже, он заметил, кивнул ей, улыбнулся, и сердце её затрепетало...
Видя ликующие толпы, император всё более преисполнялся благоволения, и постепенно на смену важно-серьёзному выражению пришли открытость, радость, и ясная улыбка, так красившая лицо, замерла на губах. Ему хотелось добра и мира, и вот уже он шепчет Остерману про то, чтобы бабушке выдать полный пансион, дать штат служанок, дабы ни в чём она не нуждалась... Вот уже помышляет о том, чтобы скостить недоимки народа, а ещё — уничтожить следы пыток и казней, кои устраивал в Москве дед...
Новодевичий монастырь — лишь начало коронационных торжеств, после того государь говел в Троице-Сергиевой лавре. Долгий пост и страстная молитва перед великим возложением короны, перед высшим таинством, и лишь после того — коронация в главном Успенском соборе.
Патриарх, архиепископы, митрополиты, сановники, генералитет... Торжественный колокольный звон... Таинство в алтаре... Возложение короны, речь Феофана Прокоповича... Шесть камергеров, в том числе Иван Долгорукий, подают царскую мантию. Золотые дуги короны усыпаны драгоценными каменьями, державный крест лучится в море свечей... И не оторвать глаз от этой торжественной церемонии...
Рядом с Натальей у стены притулился старый тщедушный человечек с карандашами и картоном, который что-то зарисовывал. Она не обратила на него внимания, ибо вся поглощена лицезрением таинства и горячей молитвой. «Господи! — шептала. — Ты можешь всё! Сделай так, чтобы многие твои силы наполнили государя, чтобы сердце его не очерствело с годами... Добрым деяниям пусть не будет предела, а умным его советникам извода». Владимирская Богоматерь, казалось, глядит с особой милостивостью. Дионисиевы праведники голубые, прозрачные... Чтение Евангелия... Пение, уносящее в небеса...
И тут... словно сбросили её с высот, на которых пребывала Наталья. До неё донёсся громкий, беззастенчивый шёпот:
— Глянь на серьги у Собакиной... больно дёшевы...
— Зато у Строгановой в каждом ухе тысяч по десять... такие были у Меншиковой Марии...
— Кого вспомнила, мерзавку! Небось у неё и перекупила...
Наталья обомлела, резко обернулась, хотела что-то сказать, но тут так кольнуло в бок, что чуть не вскрикнула. Ох, этот корсет! Первый раз надела, откуда знать, что железные планки так коварны?..
После коронации Пётр II поселился в Коломенском, в старом романовском дворце. Это были затейливые деревянные хоромы с островерхими крышами и башенками, крылечками и гульбищами, с царскими фелюгами. Здесь родился его дед, ещё цела колыбель, в которой его качали... Здесь стояли петровские солдаты... Отсюда открывались родные просторы: река, луга, плодовые сады, огороды, птичник — и всё исполнено истинно московского духа. Дворец стар, давно обветшал, иные половицы не только скрипели, но и проваливались, и всё же тут — живая память предков, всё полно воспоминаний...
Сюда, в Коломенское, явился немец-гравёр, которому Иван Долгорукий обещал встречу с государем. Пётр в порыве великодушия не только не гнал старика, но даже напялил на голову ненавистный парик, спускавшийся на три стороны. Государь сидел верхом на стуле, и художник быстро нарисовал его в профиль для монеты.
А через несколько дней вновь явился к Долгорукому и вручил что-то завёрнутое в тряпицу. Это была картина, изображающая коронацию государя в Успенском соборе, где рядом с царём стоял его фаворит (картине этой — скажем сразу — предстоит сыграть немалую роль в будущей судьбе князя Долгорукого).
Иван Алексеевич, довольный подарком, вынул серебряный рубль, только что отлитый на монетном дворе, подбросил его в воздухе — белое солнце сверкнуло в нём, — и немец подхватил дорогую монету...
Читать дальше