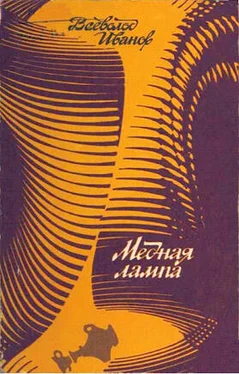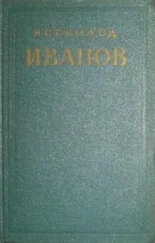Князь вдруг наклонился к лицу Мальпроста, схватил его за виски и наклонил вниз.
— Видишь? — вскричал он. — Видишь пристали к берегу лодки с дичью? Видишь бабу возле лодок? Кричит, суетится — не складная, грубая, не выезженная ни в упряжь, ни под верх скотина? — Он отпустил Мальпроста и, всплескивая руками, воскликнул: — Неужто я её любил?.. Полно, ради её ли зарезал государева кречета?! Неужели она, как саранча пожирает хлеб, пожрала меня?!
Во рту Мальпроста от изумления язык словно отмерз. Он раскрыл большой сочный свой рот и молча смотрел на князя. А князь продолжал молотить:
— Она, она!.. Это она, проклятая, все содеяла!.. Это из-за нее пожолкло, как от порчи, мое сердце и, будто в засуху трава, высох и осыпался с моей головы волос. Из-за нее, узнав о судьбе Носника, государь рассердился и сказать изволил про меня: «Вот дурак!» Так и пошло. Так и стал я дураком! Так и пошло по всей Руси и в другие земли и дошло до какой-то там поганой Флоренции! Государь у нас добрый, слава ему! Но одного его доброго слова «дурак» хватило на то, чтоб я навсегда остался в этих лесах разводить скот да строить избы. А мои сверстники бьются с татарами на востоке, бьются с врагами Руси на западе, и идет им слава, и честь, и песня. А какая песня пойдет обо мне по Руси, что обо мне скажет честной народ?! Жил-был дурак, съел из-за глупой бабы государева кречета… Погибло все! Топчусь я на этом берегу возле Оки, опрокинут я, и дует на меня ветер, и проходит мимо меня жизнь, как ветер через бездонную бочку…
Молчал Мальпроста, потрясенный правдой его слов. Мил ему был князь, мил и близок.
Князь холодно смотрел на иноземцев, а если и говорил с ними, по иной причине. Услышав, что приехали иноземцы вместе с воеводой и что иноземцы те — искусники, князь подумал: «А какое ж искусство больше всех ценит царь Алексей Михайлович? Соколиное! И раз иноземцы-соколятники едут с воеводой, то и везут к шаху персидскому русских кречетов…»
Спросил князь с великой надеждой в голосе:
— Почему вы так горячо хотели посмотреть моих соколов? Али государь говаривал вам о моих соколах? Али государь ждет, что я выращу сокола лучше Носника? Али государь стал думать обо мне лучше, чем прежде? Что вы мне скажете, други?!
Князь Юрий был мил и близок иноземцу Мальпроста. С радостью бы ответил Мальпроста утвердительно на княжий вопрос. Но как он мог ответить? Давно уже царь забыл о князе Юрии Подзольеве, давно уже считает его старым, беспомощным, неспособным.
Ответил безмолвно, взором Мальпроста: «Молчит о тебе царь. Перетерпи и ты, отмолчись, коли можешь».
И князь отошел от него.
Рулевой закричал:
— Отчаливай, ребята! — и повернул широкий размокший руль.
Судно качнулось. Хоромы, церковь, избы мужиков, пестрая челядь княжья и сам высокий сутулый князь Юрий Подзольев — все скрылось за кораллово-красным лесом, над которым висело темно-пурпуровое солнце, говорящее, что и завтра быть тому ж ветру, какой и сегодня.
Дюжий лоцман с окладистой бородой в синей рубахе, раздуваемой ветром, вывел ладью на плес, на самый судовой ход. Ладья шла самосплавом, да и мужики помогали бечевой. Бечева то натягивалась, то шлепала по воде, летели с нее искристые капли, и проносились под ней молочно-белые чайки.
— О чем, Мальпроста, говорил с тобой князь Подзольев? — спросил вдруг мессер Филипп Андзолетто. — Не о соколе ли? Раскаялся лн он в своем глупом поступке иль и впредь думает поступать так же?
Мил был князь Юрий флорентинцу Мальпроста. И сказал он:
— Нет, не раскаялся князь. И впредь думает поступать так же.
Поджав губы, замолчал мессер Филипп Андзолетто.
— О истинный боже, как чудны твои дела! — прошептал Мальпроста, глядя на волны, которые поднимал строгий и сухой ветер, и на стрельца в зеленом, что стоял на носу ладьи, возле кички, и на спящего воеводу Одудовского, и на согбенного мессера Филиппа Андзолетто, который распухшими красными глазами смотрел вперед и тосковал по молодой жене, и тосковал по Флоренции и по реке Арно, где неподалеку от главного моста некий Каппиччо продает гостиницу… Мессер Филипп страстно хочет домой, а путь туда далёкий и неверный, о, истинный боже!..
1946