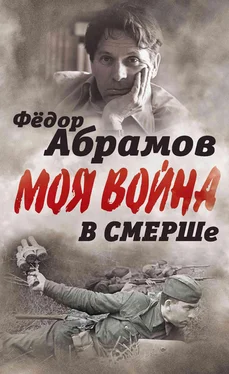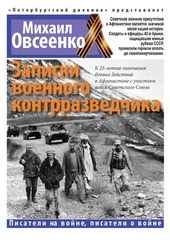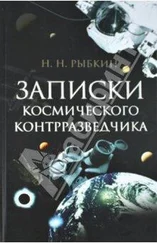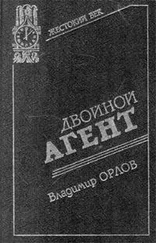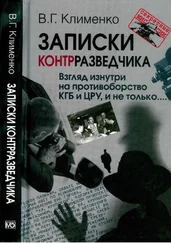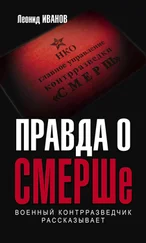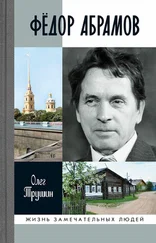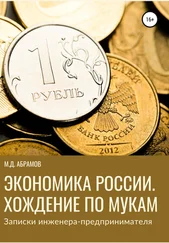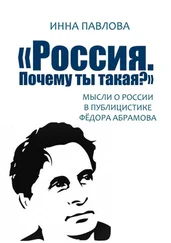Первоначально в 1958 году рассказ был целиком посвящен личности и судьбе Семена Рогинского, нашего сокурсника, талантливого участника художественной самодеятельности. Чтение им героико-романтических сцен и монологов из книг Ростана, Шиллера, Джека Лондона всегда завораживало аудиторию.
Первые наброски так и названы: «Рогинский», «Рассказ о Рогинском», «Светлой памяти Семена Рогинского, человека с задатками великого артиста». Писатель подробно изображал, как Рогинский на студенческом вечере 1 мая 1941 года читал рассказ «Мексиканец». Затем — фронтовые будни, исчезает ореол героики, но затем героическое начало берет верх. Рогинский бросился спасать по минному полю подорвавшуюся лошадь. Рассказ заканчивался фразой: «Да, это был бы артист великий. Кажется, Эренбург сказал: наши главные потери — таланты».
12 ноября 1958 года Абрамов уже критикует себя: «Первоначальный замысел — надо ли быть (хоть в потенции) героем, чтобы сыграть героическую роль, — никуда не годится. Это иллюстративно». А дальше определяет главную суть рассказа:
«Рассказ о Рогинском — это рассказ о поколении, которое вынесло главную тяжесть войны. Огромная, окрыляющая душу вера и полная неприспособленность к практической жизни. Сильны духом и слабы телом. Силен духом и не готов телом. В этом ведь все дело. Это характеризует Россию накануне войны в целом. Огромный накал чувств, воспламененность духа и полная материальная неготовность. Отсюда колоссальные жертвы в первые два года.
Рогинский в общем-то напрасная жертва. Жертва нашей неприспособленности и неготовности, жертва русской безалаберности и шапкозакидательства. Да, в Рогинском привлекает именно накал патриотических, героических чувств, который характеризовал наше поколение».
Все последующие годы шло углубление социально-философского смысла рассказа, трагических событий Отечественной войны.
«17. Х.1960. Война. Карельский перешеек. Первое пробуждение от сна. Неподготовленность. Фронт. Командует фельдфебель. А где же армия? Где же наши боевые командиры, о которых мы пели в песнях? Нет, не так представляли мы себе войну.
Мысль рассказа: крушение идеализма поколения 30-х годов в войне. Первое отрезвление. И все-таки: красота, великая красота людей моего поколения, чем-то напоминающих юность декабристов, но декабристов (романтиков), вышедших из народа…»
Название рассказа — «Белый конь» — впервые появилось в заметке от 25 ноября 1962 года. Первые варианты рассказа датированы 18 и 19 октября 1967 года.
1 декабря 1971 года появляется вариант концовки: «30 лет прошло с тех пор, как это случилось на хуторе возле маленькой деревушки со странным названием Пицдузи. А у меня перед глазами и сейчас стоит белая лошадь. И стоит Рогинский, стоят мои товарищи по университету (сверстники), которые защищали в 1941 году Родину… И они не стареют. Потому что подвиг не стареет».
В 1975 году Абрамов значительно углубляет рассказ, соотносит подвиги погибших товарищей с современностью. Появляются заметки о Сталине, о докладе Хрущева на XX съезде, о хрущевской оттепели, о праздновании 30-летия Победы. Он возмущался плакатным, облегченным изображением войны в литературе, в скульптурных памятниках. Особенно повергали его в уныние официозные празднования Дня Победы.
Сохранилась черновая запись после одного из писательских собраний, посвященного Дню Победы. Абрамов выступил резко против доклада, в котором уравнивались подвиги фронтовиков и тех, кто вдали от боев читал лекции и писал пропагандистские статьи (Л. Плоткин, Д. Молдавский). Абрамова никто не поддержал, а Молдавский обвинил его даже в антисемитизме. Тогда он и записал: «Так вот для любителей всякого рода спекуляций: Абрамов не антисемит. Он свято чтит память друзей-евреев и ненавидит евреев-ташкентцев, тех, кто отсиживался в войну. Хорошая формула: никто не забыт. Нельзя забывать подвиги. Но нельзя забывать и подлость человеческую, тех, кто отсиживался в войну. Короче, нельзя уравнять подвиг человека жертвующего и подвиг человека, спасающего свою шкуру».
Вспоминая погибших, писатель все чаще и чаще думал о поведении оставшихся в живых.
«19. XI.1978. Проблема из проблем: выполняем ли мы свой долг перед павшими? Они отдали жизнь, стояли насмерть, а мы? Не разжирели ли? Не переродились ли? Что делаем? Как себя ведем?
Увековечить ребят в мраморной доске надо. Но достаточно ли этого? Самый ли главный памятник павшим?
Главный памятник павшим — наши дела сегодня, наше поведение. Выдержали ли мы экзамен? И не тяжелее ли выдержать проверку жизнью (долгой), чем проверку войной?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу