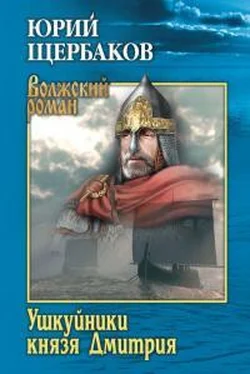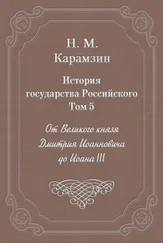Потому и принял он назавтра нечаянного своего спасителя с нарочитой простотою и ласкою. Сидели в просторном вельяминовском шатре, раскинутом на почетном – без малого в версте – расстояньи от ставки самого Мамая. И таким нелукаво гостеприимным показался Поновляеву хозяин, что не устоял новгородец, нарушил зарок и впервой с далекого того астороканского кутежа пригубил чашу сладкого ширазского вина.
Выпили за счастливое спасение боярина, и за Русь святую, и за удачу в многоразличных делах, и тут схмеленный Вельяминов жаловаться начал на непереносное свое одиночество, к коему приговорила его клятая судьба.
– Ты ить, чай, мыслишь, что бабник я несусветный?
И махнув рукою на готового возразить Мишу: «Чего, мол, там!» – домолвил:
– Вовсе и не яровит я до жонок тех. И не жажду перепробовать всех девок Абрамовых. В блуде том забыться хотел от суеты жизни сей. Тоска заела вчистую, стойно вше. И что делати – не ведаю. И яко жити – не знаю…
И так показалась Мише понятна мятущаяся, в кровавых ранах да рубцах душа боярина, яко и Поновляев ввергнутого судьбою, ровно в пучину, в треклятую Орду, что не очень‑то и упирался, когда предложил Вельяминов идти к нему на службу. А и чего упираться‑то? Чем армянского купчины прибытки пасти, не лучше ли такому же горемыке несчастному (даром что боярского роду!) ношу тяжкую помочь несть? Тем паче что Димитрий Московский и Поновляеву не люб – не он ли приказал за костромской разор имать да в железа ковать своевольных ушкуйников! Имать‑то, правда, князю никого не пришлось, ибо не на море Хвалынское, а в неведомые пределы, куда смертным при жизни заглянуть не дано, ушли новгородцы от грозной расправы. Один только Миша изо всей ватаги и удержал пока грешную душу в бренной оболочине. И днесь поклялся он еще одну грешную – вельяминовскую – душу беречь, дабы не рассталась она с боярским телом раньше того сроку, что самим Господом назначен. И ему одному лишь – Богу Отцу, Вседержителю, Творцу неба и земли, видимым же всем и не видимым – ведомо, яко отзовется днешнее решенье Поновляева и давешний подвиг его на судьбе языка русского, да и отзовется ли…
А ведь и двух месяцев с того дня не прошло, когда свершилось в Мамаевой Орде заурядное для жестокого века событие, как и отозвалось, и аукнулось оно, да не где‑нибудь, а в тереме Великого Князя Владимирского.
Над Москвою, насквозь пронизанный жарким еще солнцем, истаивал Семен-летопроводец. И, унося в долгих клювах невозвратимые мгновения первого сентябрьского дня, плыли и плыли в звонкой, не по‑осеннему еще выцветшей голубой вышине журавлиные клинья.
– Верная примета. Быть зиме ранней.
Дмитрий с легким вздохом оторвался от оконца, куда не вставили еще вынутую на лето слюду. На душе у князя было покойно и просветленно-грустно – как бывает лишь в этот прощальный лету день. А и еще одна причина была такому настроению, ибо попрощался седни со младенчеством средний княжич Василий. По обычаю свершили ему нынче постриги. Дмитрий улыбнулся в бороду, вспомнив потешно-серьезную рожицу своего любимца, когда всадил его, донельзя гордого, в седло.
Вот уж замирало, поди, сердце у тяжелой, по седьмому месяцу уже, Евдокии, когда взирала, опершись на перила гульбища, как и раз, и другой, и третий обвез княжича кругом двора смирный гнедой жеребец. По-бабьему‑то разумению подольше бы сыновей в несмышленышах числить, холить да нежить. Да ить недаром сложено: на Семена дитя постригай и на коня сажай. Расти, сын, и мужай скорее, ибо ратную грозу под подолом не пересидишь! А их, гроз этих, впереди – неисчислимо. Расти, Василий, чтобы сменить вовремя державного отца, разгоняющего покуда тяжкой десницей своею злую хмарь на небосклоне Отчизны.
От высоких мыслей этих господарских и начал Дмитрий разговор с братом Владимиром благодушным увещеванием:
– Дошло до меня, брате, что восхотел ты учинити в Орде расправу тайную над переметчиком Вельяминовым, да не створилось сие. Не попустил бог злодейству. Почто утаил от меня умысел сей?
Порывистый Владимир в ответ возвысил голос, порушив разом взятый Дмитрием мирный лад:
– Окстись, княже! Кого прижеливаешь! Вывертня клятого? А ведомо ли тебе, что не унимается сей злыдень окаянный, честь мою навозом ордынским пятнает?
– К чести твоей, брате, соринки никоторой покуда не налипло! А свершишь неправедное дело – то и будет проторя чести княжой! Была ить и не пораз уже говорка меж нами о лже вельяминовской!
Читать дальше