«Что нужно-то было мне, окаянному, от нее, моей любушки, ведь любила же, сама сказала на прощанье, да и сам я нешто не видел, как ласкалась она, чего еще, гордость обуяла, сгубить нужна было, боялись, что Хлоповы место наше займут? Теперь вот лучше стало! Братец-то небось с матушкой не нарадуются, их дело ведь, они все натворили! Эх, топора мало мне, сам тоже в Думе перед боярами околесицу плел!» – не раз думалось ему, и что-то тяжкое, нехорошее закрадывалось в душу и мутило и ворочалось в ней.
Ему хотелось выплакать свое горе, свое оскорбление слезами, раскаянием хотелось омыть свой тяжкий грех, но слез не было, словно высохли они или превратились в тяжкий камень, который лежит у него на сердце.
А тут еще нынешняя встреча во дворце с Черкасским доконала его окончательно. К угрызениям совести прибавились еще опасение и страх за то, что тайна, так бережно хранимая им, известна.
Не мог равнодушно он видеть Черкасского, занявшего при царе место его брата, отнявшего у последнего почести. При встречах с ним он как-то терялся, бледнел, хотелось ему нагрубить, оскорбить чем-нибудь князя. Так было и нынче.
Черкасский выходил от царя; надменно, с едва заметной язвительной улыбкой взглянул он на Салтыкова, бросавшего на него злобные взгляды, и вместо обычного тогда поясного поклона едва кивнул головой боярину.
Не стерпел Салтыков, сердце у него сжалось, кровь бросилась в голову, захватило дух.
– Аль не узнал меня? – заговорил он дрожащим, прерывающимся от волнения голосом. – Что не кланяешься?
– Как не узнать тебя, боярин, тебя, чай, все знают, а что не кланяюсь, так это ты напрасно, я поклонился тебе! – отвечал с усмешкой князь.
– Не видал я твоего поклона, допрежь так чуть не в землю кланялся мне, тогда были приметнее поклоны твои.
Черкасский вздрогнул, правда затронула его самолюбие, боярин сказал истину: не так давно еще было то время, когда он изгибался и гнул перед ним спину.
– Я и царю-то низко не кланяюсь, не то что тебе! – проговорил, вспыхнув, князь.
– Что говорить, как подбился к царю, так от радости, знать, память отшибло!
Черкасский окончательно вышел из себя:
– Я не подбивался к царю, а ежели была его милость приблизить меня к себе, так не за что другое, как за верность мою, потому я не опаивал зельем царевну и не лгал на нее перед Боярской думой!
Слова Черкасского добили боярина, им овладела ярость, он готов был броситься на него, задушить здесь же, на месте, но под давлением страшного обвинения, произнесенного князем, он не мог двинуть рукой, ступить шагу, ему казалось, что он прикован к полу, на него напало какое-то оцепенение.
Князь видел, какое действие произвели на боярина его слова. Слышавший мельком что-то путаное, туманное о том, будто царевна была опоена, что это дело было сделано руками Салтыковых, теперь, при виде уничтоженного боярина, он убедился, что в этих глухих сбивчивых толках есть и должна быть значительная доля правды. Он поглядел еще раз на боярина, улыбнулся и не поклонившись вышел из покоя.
Не скоро опомнился боярин; шатаясь, вышел он из дворца и прямо направился в Вознесенский монастырь, к матери. Зачем он шел туда, он сам не мог дать себе отчета, его что-то помимо воли тянуло туда, он чувствовал необходимость высказаться, сорвать на ком бы то ни было, хотя бы на матери, всю накопившуюся за последнее время злость.
Прошло около получаса, как он находился в келье, его разбирало нетерпение, он еще больше злился на всех и на все. Слова Черкасского не выходили у него из головы, буровом вертели они его мозг, приводили в бешенство.
– Вырвалось… известно стало… в набат теперь забьют, мало ли недругов… холопы даже порадуются! – вырывались у него слова.
Он не мог понять, как, кто мог доведаться до истины, кто мог выдать его. Положение его действительно было ужасно. Если знает Черкасский, кто мог поручиться за то, что не знают этого же самого остальные, как он теперь покажется на глаза, как будут смотреть на него, что думать. Недругов у него действительно много, найдутся и такие, которые сочтут своим долгом шепнуть об этом деле и царю и патриарху. Начнется следствие, тогда уж не опала грозит, тогда, пожалуй, придется познакомиться и с топором, не спасет от него ни знатность рода, ни положение и родство царское, как взглянет на это огорченный и до сих пор влюбленный в свою изгнанную невесту царь.
При последней мысли дрожь пробежала по его телу, он схватился за голову. Несколько минут простоял он в таком положении, не видя, что в покой вошла Евникия и при виде его остановилась, растерянная, у двери.
Читать дальше




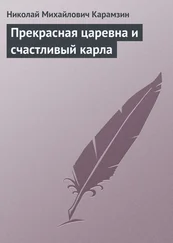


![Василий Масютин - Царевна Нефрет [Том II]](/books/422379/vasilij-masyutin-carevna-nefret-tom-ii-thumb.webp)




