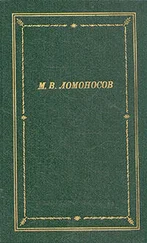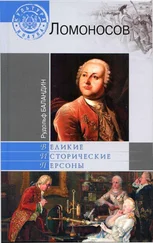— На все посты фирмы я расставлю своих людей, преданных, надёжных. Но производить фирма ничего не будет, это хлопотно — только покупать и перепродавать. Наладим дело, капиталы вырастут, а там и компаньоном моим станете. И как знать, как знать... — задумчиво протянул Рогеман. — Ежели дела пойдут, то и фирму затем возглавите...
Ломоносов, не совсем ещё в его предложение вникнув, глядел на него оторопело. В науках всё быстро схватывал, а тут даже сразу и не понял, к чему клонится.
— Это как же так? Я же ведь наукам обучался, а не мешками с товарами торговать...
— Всякое дело постольку приемлемо, поскольку оно приносит доход, — возразил Рогеман. — Но что-нибудь и от ваших наук пригодится.
— Но как же я начну у вас служить, ежели я на родину, в Россию, должен вернуться?
Тут уже вмешалась Елизабета. Ласково прильнув к плечу и заглядывая ему в лицо снизу вверх, она проникновенно заговорила:
— Милый, ну при чём тут твоя Россия? Ну при чём? Разве тебе здесь плохо? — Она нежно потёрлась виском о его щёку, приникая к нему своей полной грудью и тёплым плечом. — Ведь хорошо же? Правда, хорошо? Ну а там, где тебе хорошо, там, значит, и твоя родина.
— О да! Человек должен думать о том, чтобы хорошо было и ему, и его семье. — От печки подала реплику фрау Цильх.
— Так это что же? — всё ещё недоумевая и не принимая смысла их слов, спросил Ломоносов. — По-вашему, я в Россию возвращаться не обязан, а могу здесь остаться?
— Ну да, милый, да! Как хорошо, что ты наконец всё понял, — защебетала Елизабета, крепко прижимая к себе локоть Михайлы. — Останься здесь, и ты увидишь, как прекрасно мы будем жить. Останься!
— Именно так. Останьтесь, и это лучшее из того, что вы можете предпринять, — опять солидно кивнул Рогеман.
Останься! Останься, и ты никогда не увидишь русских просторов, не выйдешь босиком в поле и не вдохнёшь целительного воздуха родины, напоенного ароматом спелого хлеба и диких цветущих трав. А зимой не ударит по щекам крепкий русский морозец, заставляя тебя бодрее шевелиться, быстрее гнать кровь по жилам, радоваться блесткам солнца в сугробах и скрипу снега под ногами. Будешь киснуть в здешней простудной слякоти.
Останься, и не обременят тебя порой непомерные тяготы русской жизни, потоки бабьих слёз и мужицкого пота, что так обильно льются на твоей родине. И несправедливостей, кои тебя так возмущали, ты более не увидишь. Будут чужие несправедливости, чужие слёзы, чужой пот, а свои останутся где-то там, далеко, и тебя они не тронут, и не ты будешь их искоренять.
И не возликуешь ты более, услыша о победах русских, которые тоже будут. Не сможешь громко их воспевать, ибо не принял ты в их созидании участия, бросил те победы ещё у их колыбели и потому не посмеешь радоваться им открыто. А чужим победам радоваться не захочешь, ибо они навсегда останутся для тебя чужими.
Корни твои, истоки твои останутся там, в России, а ты и потомство твоё, безо всяких корней, лишь тобою начатое, будет взрастать здесь. Дети твои станут немцами, а внуки уже никогда не постигнут родной твоей русской речи, которую ты так любил. И всё это не потому, что они этого захотели, а потому, что это ты, ты своей волею их всего этого лишил!
Ломоносов мрачнел, душой деревенея. До того казавшиеся ему близкими люди отдалялись, отгораживались будто стеной непонимания. А Елизабета, приняв его долгoe раздумье за молчаливое согласие, уже завихрилась в мечтах об их будущей жизни.
— О Микаэл, мы разбогатеем, у нас будет всего много. Заведём собственный выезд: в лакированную коляску на мягких рессорах будет запряжена пара каурых лошадей. Ты будешь на прогулках иногда править ими, но для содержания их мы наймём конюха.
Даже суровый Рогеман одобрительно, едва ли не улыбаясь, наклонял голову, а фрау Цильх, оставив очаг и севши за стол, поближе к собеседникам, тоже подала реплику:
— Ну зачем же каурых? Вороные выглядят лучше.
Продолжавший молчать Ломоносов, внутри которого поднимался гнев, раздувая ноздри и вцепившись руками в стол, остервенело глянул на Елизабету, ещё ничего не говоря, но уже всем видом показывая, что он вот-вот скажет. Елизабета, перехватив этот взгляд, поняла его по-своему.
— О муттер, — недовольно возразила она матери. — Ну что вы вмешиваетесь! Разве вы не видите, что Микаэлу совсем не нравятся вороные лошади? Правда, дорогой? Но зачем спорить? Ты сам выберешь лошадей; какие тебе понравятся, тех и возьмём.
«Каурые, вороные, серые в крапинку!.. А к ним и меня впристяжку?!»
Читать дальше