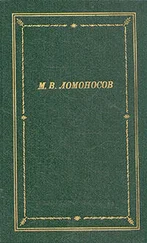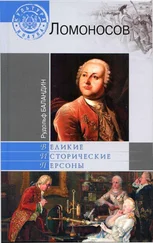— Это пошто же я буду его носить? — возмущённо возразил Ломоносов. — Я вам не солдат и в службу не нанимался.
— Как не нанимался? — возмутился вахмистр. — А кто вчера бумагу подписал у поручика, а потом на полученные деньги вино пил и других угощал? Разве не ты? — И, видя недоумение и несогласие Ломоносова, снова заорал:
— А ну, надень галстук, скотина! — и огрел Ломоносова тростью по голове. Огрел и тут же отскочил к двери.
Дёрнулся Ломоносов от неожиданности, вспылив, бросился было на вахмистра, но тот уже кричал в дверь:
— Солдаты! Ко мне!
Мгновенно Ломоносов сообразил, что даже своей немалой силой он ту вражью силу не одолеет. Изломают они его, и не будет он тогда ни на что годен. Нужно применить силу ума, ею он сильнее и потому смирился, надел галстук и спокойно отошёл в угол.
— Вот так-то! — удовлетворённо сказал вахмистр, погладив усы. — Будешь всегда таким же умным, дослужишься и до вахмистра.
Солдатская служба в те поры в Германии была делом не сладким. Войско набиралось из наёмников, и на службу людей залучали специальные вербовщики любыми способами. Особое внимание уделялось поискам людей высокого роста, к которым Фридрих Прусский питал большое пристрастие и комплектовал ими свою гвардию. Были среди наёмников и такие, которые по своей воле запродавались, спасаясь либо от нужды, либо от долгов, либо от кары и мести владык мелких земель, из коих и состояла тогда Германия. Но не брезговали вербовщики и обманными путями, ложными посулами и опоем.
И уж коли завлекли, залучили, коли ты подписал бумагу, то всё. На целую жизнь попал в кабалу. Только ежели на войне убьют али покалечат — иного выхода из солдатчины нет. А ежели убежишь и поймают — смерть! Забьют шпицрутенами, сквозь строй гоняя, дабы другим было неповадно.
Целый день Ломоносова на плацу учили фрунту. Наука сия, как объяснил вахмистр, сложная, и потому начали её с самого простого: весь день то тянулись но стойке «смирно», то по команде поворачивались кругом. Для разминки заставляли бегать и ползать на брюхе. Вахмистр поучал их, что через полгода такой науки они её постигнут даже и в том случае, ежели головы у них набиты не мозгами, а собачьим дерьмом, что, по твёрдому убеждению вахмистра, скорее всего так и есть.
Но у Ломоносова голова всё же была наполнена совсем не тем, чем уверял вахмистр, и потому он думал и во время тех военных экзерсисов внимательно оглядывал крепость и её окрестности.
Нужно бежать! Но днём он всё время на виду, кругом солдаты, днём не убежишь. Бежать можно только ночью. И Ломоносов, старательно исполняя солдатские сикурсы, нетерпеливо ждал конца дня.
Наступил вечер. Новобранцам дали жидкий ужин — гороховой похлёбки с фунтом хлеба, затем опять привели в ту же караульню, где они спали и первую ночь. На этот раз Ломоносов очень внимательно её осмотрел. Всё было то же, каменные стены, окна с решёткой. Перемены коснулись лишь подстилок — их переложили на деревянные топчаны и дали набитые сеном подушки. Дверь, как убедился Ломоносов, была крепка — её не выломать. Окно выходило прямо на старый крепостной вал, по которому прохаживался часовой с ружьём.
Ломоносов осторожно, дабы не привлечь внимания остальных, подёргал толстую деревянную решётку окна, на вид казавшуюся очень прочной. И, о счастье, — в нижних концах перекладин решётки, где они входили в каменный подоконник, дерево от влаги подгнило, и Ломоносов почувствовал, что, ежели на решётку хорошо навалиться, её можно и выломать. Заметил это себе, но виду не подал. У него не было никакой охоты посвящать в план побега своих компаньонов по солдатчине: он не забыл, как предательски они вели себя вчера в шипке, когда офицер стал его завлекать и одурманивать. Могли бы ему и знак подать: ведь они-то знали, что делается, ибо запродались добровольно, хотя кое-кто из них днём уже горько каялся.
Потому Ломоносов решил бежать один. Заранее поставил свой топчан прямо под окно, чтобы никто не пересёк дорогу. Улёгшись, долго ждал, когда соседи захрапят. Потом ещё слушал, как затихают звуки в крепости: перестали слышаться крики солдат, топот лошадей, бряцание оружия; лишь за окном время от времени раздавались шаги проходившего часового.
Когда всё угомонилось, Ломоносов тихо встал, натянул кафтан, обувку, влез на топчан и прильнул к окну. Выждал прохода часового и, прослушав его удаляющиеся шаги, осторожно, приложив силу, потянул решётку. Ещё, ещё чуть, и дерево вдруг слегка хрустнуло, и тот хруст отдался в ушах, казалось, прогремев кругом великим грохотом. Ломоносов замер в испуге, слушая, не разбудил ли кого. Но соседи спали, часовой не бежал на шум по валу, всё было тихо.
Читать дальше