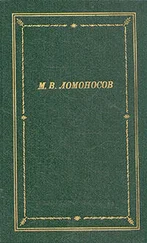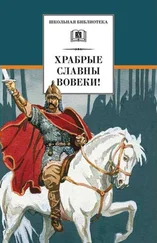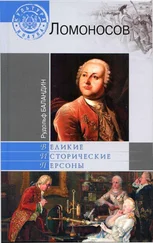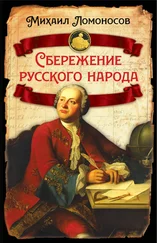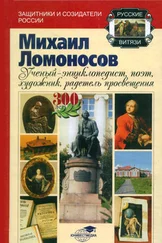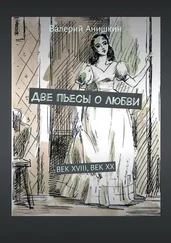Мало того – в отдалении уже выкопаны ямы под фундаменты для фабричной слободы. Михайла Васильевич понимал, что его будущие мастера от крестьянства должны отойти — вот в слободе и поселятся.
Уже видится фабрика: первая печь разожжена, мельница работает. Теперь всё стекольное производство можно переселять в Рудицу и разгрузить городскую лабораторию от заполнивших её стекольных причиндалов, что Ломоносов и начал делать в первое же лето. И всеми теми свершениями очень гордился, ибо сделано всё было его иждивением, его стараниями, по его замыслу и не потехи ради, а для дела, для облегчения труда людей и процветания небывалого дотоле на Руси стекольного промысла.
Первая половина лета была жаркой, дождей не случалось, но затем, в июле, погода начала хмуриться, по всему небу часто нависали и громоздились кучевые облака, от чего, по всем приметам, надо было ждать грозы. Ломоносов всё подготовил для експериментального наблюдения своего маленького «северного сияния». Линейку аршинной длины, подвязанную к молниеотводу, слегка подогнул по форме стекла и приложил к колбе сверху. Самое же откачанную колбу он поставил на медную пластину, которую соединил проводом со штырём, забитым в землю. Сделал так, мыслью опираясь на предыдущие наблюдения. Ведь искры летели от линейки к пальцу либо иному телу, стоящему на полу или на земле. Молния так же всегда била в предметы, стоящие на земле, — в дома, деревья, а то и в неосторожно торчащих на виду во время грозы людей. Вот и думалось, что через те предметы и тела молния уходит в землю, а ежели для неё другой путь будет, то она его изберёт. Ведь именно в том и виделся смысл молниеотводов при строениях. Вот он и облегчал путь искрам — от молниеотвода через колбу к земле. А про себя думал, что так наблюдать спокойнее, понимал: нужно блюсти осторожность, ибо с грозой шутки плохи. Недаром ещё в научном отчёте за прошлый, 1752 год записал: «...чинил електрические воздушные наблюдения с немалой опасностью».
Всё было подготовлено. Не раз и безо всякой грозы и слышного грома нитка, подвешенная рядом с линейкой, трогалась и вроде бы даже слегка отходила от неё, но Ломоносов уже знал, что електрическая сила при этом невелика. Потому выводов пока не делал, ждал настоящей грозы Ставя опыты и проводя наблюдения, Ломоносов и Рихман одновременно готовились к публичному Акту, которым в академии торжественно завершались годовые исследования. Уже решил, что речь на Акте «будет отправлять» Рихман и тут же предложит свои опыты. А он, Ломоносов, «наиподробно изложит теорию и пользу, от оной происходящую».
Оба от Акта ждали многого — и интереса публичного, и повсеместного внедрения молниеотводов для уменьшения убытков от пожаров в державе, и европейских публикаций, одобренных академическим собранием. Дабы не терять возможности наблюдений во время строительства в Рудице, Ломоносов и там соорудил «громовую машину». В жилом доме ещё рамы вставлены не были, а молниеотвод уже торчал, и для наблюдений там тоже всё было готово.
Устроил всё это не зря. Часто собирались, ходили, громоздились угрюмые тучи, потом развиднялось. Затем ещё хмарилось, по снова проходило. И вдруг ударило по-настоящему. В те дни Ломоносов был в Рудице, занимался строительством жилого дома и ладил приводы к мельнице. Ставили на деревянных опорах барабаны, натягивали приводные ремни, сам подбивал топором клинья, регулируя их натяг.
Гроза налетела быстро, послав перед собой метущие вихри палых листьев и пыли. Ломоносов поглядел на небо, да так с топором в руке и побежал в дом к молниеотводу. Прилучившийся в руке топор с его сухой деревянной ручкой оказался весьма способным инструментом, и Ломоносов тут же к сему делу его пристроил. Приставил топор к железной линейке и увидел, как с трёхгранных его углов беспрерывно полетели к аршину искры, как некая текучая материя, наподобие небольшого пламени. Его же самого сухое топорище от уколов предохраняло. А как в небе сильно ударило, так к оному топору конический шипящий огонь на два дюйма [147] Дюйм — 2,54 сантиметра.
и более простёрся.
А потом и вовсе чудесное увидел. Вдруг из неровных брёвен, из коих было выложено ещё но заделанное окно, выскочили шипящие конические искры сияния, самого аршина достигли и почти вместе у него соединились.
Остро пах наелектризованпый воздух. Лесины в просохшем недостроенном доме зловеще потрескивали, тревожная грозовая атмосфера взвинчивала нервы. Голубые искры, время от времени бьющие в аршин, вызывали зябкую настороженность и пробуждали ощущение какой-то новой, неизведанной опасности. Плотники, ладившие двери, сначала недоумённо смотрели на действия барина, который с огненно блиставшим топором, со вздымающимися на голове волосами метался по комнате. Затем недоумение сменилось страхом, и они, сбившись в кучу, крестясь при каждом ударе грома и пятясь, покинули дом. Ломоносов, орудуя топором, вызывая искры и наблюдая особенности явления, не удерживал их. Он уже понимал, что его действия опасны, что может возникнуть пожар, а то ещё чего хуже. Потому без посторонних стало ему спокойнее, лишь одного себя смел он подвергать риску. Жалел во время грозы, что в Рудицу колбу не привёз, и потому, как только прояснилось, немедля поспешил в Петербург, дабы не упустить надвинувшейся полосы гроз.
Читать дальше