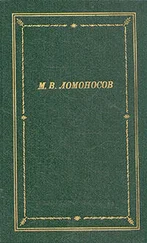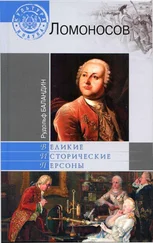Ломоносов мотнул головой от огорчения, Сколь же разнится жизнь — блестящий Петербург, величественные дома вдоль Невской Перпшективы и вот здесь, рядом, — грязная дорога и убогие домишки. Огорчился, но тут же подумал, что, как только наладится фабрика и пойдёт стекло, — обновится деревня.
«Обязательно обновится! Фабрика даст крестьянам дополнительный заработок, умножится благополучие, придут новые ремесла. Ну а уж о стекле и говорить нечего, заблистает деревня новыми окнами, веселее будет глядеть на мир большими прозрачными стёклами».
Появилась возможность порадеть не о людях вообще, а об осязаемо близких вот тут, в его деревне. И хотя чувствовал он, это будет трудно, хлопотно и многим непонятно, от тех мыслей Ломоносов не прятался, думал обо всём практически и конкретно.
Остановившись на улице, послал возницу за старостой, и вскоре Ломоносова окружили мужики. Из опаски близко не подходили, но любопытства не скрывали: «Что-то ты нам сулишь, новый барин? Каков-то ты?» За мужиками, выглядывая, прятались не менее любопытные бабы; все одеты в сермягу, мужики в таких же колпаках на голове, бабы в платочках. Обуты и те и другие в лапти, ноги обмотаны белыми онучами, перевитыми лыковыми же оборками.
В середине круга, ближе всех подойдя к Ломоносову и смявши в руке шапку, беспрерывно кланялся староста Викентий, сын Петров, как он представился, и затем лишь только и повторял:
– У нас порядок. У нас тихо. Тихо у нас.
В этом непрерывном повторении слов «у нас тихо» уловил Ломоносов великую тягу и старосты, и тех мужиков, коих он представлял, к тому, чтобы всё так же тихо и оставалось, чтобы не было перемен, ибо тёмным людям перемены, даже в лучшую сторону, порой кажутся непонятными и страшными.
Ломоносов подошёл к старосте Викентию, поднял его из поклона, заговорил дружески, ласково, обращаясь и к нему и ко всем. Рассказал о фабрике, о стеклянном деле, о той новой жизни, которая ждёт их всех. О работе, ремёслах и художественных промыслах. Говорил от сердца, обращался к сердцам. Потом объявил, что каждый может приходить к нему со своими делами и нуждами без боязни. А сейчас они со старостой будут думать и решать, как начинать строительные работы, кого, куда и когда на эти работы наряжать.
Расходились крестьяне озадаченные, мало что поняли, лишь уловили одно — пахота и сев на носу, а новый барин сулит новое тягло.
— Стеклянную фабрику строить будет. Всю из стекла.
— Да где же он столько стекла возьмёт?
— Вестимо где — из заграницы навезёт. Денег-то много!
— Реку прудить собирается. Водяную мельницу ставить, воду молотить!
— А зачем её молотить?
— Как зачем? Чтобы стеклянный дворец обрызгивать. А сам внутри сидеть будет, пряники кушать и всем этим любоваться.
— А нам всё сие тянуть! Нам-то каково будет? Ох, дела, дела... Господи, твоя воля... Спаси и помилуй!..
Потом поговорил Ломоносов со старостой, вник во всё. Ну, может, пока ещё и не во всё, а лишь в то, что сверху лежало и сразу могло быть понято. И осознал, как нелегко будет ему править всем этим хозяйством, как непросто приучить будет потомственных хлебопашцев к стройке и фабричному делу. Но делать нечего, назад пути нет, и Ломоносов, засучив рукава, сам стал подрядчиком и главным производителем работ на своей стороне.
Выяснил, что в лесу делают незаконные порубки солдаты Белозерского полка, понуждаемые к тому полковым начальством. Лес пускали на сделание к полковым надобностям колёс и жжение смолы, а то и на продажу. Пришлось Ломоносову обратиться с челобитной в Мануфактур-коллегию. Добился той челобитной освобождения имения от всяческих казённых окладов, воинского постоя и ямской гоньбы.
Временно Ломоносов обосновался в избе у Викентия, был тот одним из немногих в деревне, кто имел пятистенку; занял у него горницу. Первое время, не глядя на распутицу, сам гонял в Петербург, сам в своей лабораторной кузне сковал три десятка лопат и ломы, приобрёл топоры и прочий инструмент, всё привёз в Усть-Рудицу. И, торопясь до начала сева, когда крестьян от земли уже не оторвёшь, приступил к закладке фундаментов.
Утром зарядил нудный, мелкий дождичек. Ломоносов, досадливо морщась на небо, натянул на голову толстый башлык из верблюжьей шерсти и, чавкая сапогами, пошёл к своей строительной площадке. Там уже собрались несколько десятков мужиков, встретили его обязательными поклонами, кои он не поощрял, хотя и полностью истребить не старался. Достал из котомки угломер, верёвки, заранее выструганные колышки и стал размерять периметры под фундаменты строений.
Читать дальше