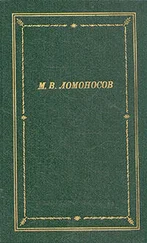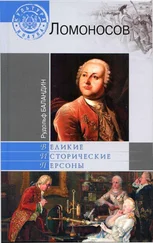Шумахер, тонко усмехаясь и потирая бледные, никогда не работавшие руки, продиктовал документ архивариусу Стефангену и, переглянувшись с Таугертом, наставлял:
— Сей, регламент, нами утверждённый, должен выполняться неукоснительно. В каком порядке кто здесь перечислен, в том и подписываться, в том и выступать в академии будут. — И снова поглядел на Таугерта: «Дескать, учись, как других сбивать, копи рецепты!»
Имя Ломоносова в том реестре стояло далеко от начала, даже позади Таугерта, который вообще в науке ничего не сделал, несмотря на приличный срок своего пребывания в академии. То давало иным незаслуженное возвышение, Ломоносову же удар по самолюбию и престижу. А в государстве, где табель о рангах [142] Табель о рангах — издана в 1722 г. Определяла порядок прохождения службы в абсолютистской России. Все должности были разделены на 14 рангов.
действует и каждому свой шесток указан, это уже не только престиж, это прямой урон и правам и делу.
Мина была подложена, и она взорвалась с немалым треском, хотя и не поразила тех, кого бы так желал извести Шумахер. В тот ноябрьский день в собрании профессоров обсуждалось что-то незначительное, споров вызвать не могло, и потому согласительный протокол был составлен быстро. Протоколист дал бумагу на подпись одному, другому, все подписывали без возражений. Когда же протокол дошёл до Ломоносова, тот сначала взглянул равнодушно, потом брови его поднялись, рука с гусиным пером, уже готовая поставить подпись, застыла в воздухе, и он издал возглас изумления.
— Это что такое? Ты пошто мою подпись едва ли не в конец поставил? — и вопросительно упёрся взглядом в архивариуса Стефангена.
— Согласно новому регламенту, утверждённому правителем Канцелярии, — изогнувшись, ответил тот. — Могу показать.
Это было уколом, мелким, но публичным. Снести его — дать коготку увязнуть в Шумахеровой трясине. А там и всей птичке пропасть. И потому Ломоносов въярился. С необыкновенной горячностью схватил поданный лист, имя своё снизу вычернил, дописал его с самого верху и поставил размашистую подпись.
— На! — гаркнул он архивариусу Стефангену прямо в лицо и с размаху швырнул лист на стол, прихлопнув его ладонью. — Вот так будешь впредь меня писать, и никак иначе!
Стефанген, струхнув, опять что-то пискнул про новый регламент. Тогда Ломоносов снова схватил протокол и, брызгая чернилами с пера, приписал свои резоны, для чего он так сделал: «Я природный русский и заслуги имею перед науками и державой не меньшие, ежели не большие прочих!» Поставил жирный восклицательный знак, швырнул лист протокола Стефангену и вышел прочь.
Конечно, потом была жалоба президенту Разумовскому от негодующих профессоров-академиков, поддержанная Шумахером. На то и расчёт был. Они представляли свои мнения о новых несогласиях, коими вся академия в беспорядочное состояние приведена быть может. А прекословия и раздоры объясняли характером, который некоторым академикам сверх профессорского достоинства дан. И под теми «некоторыми» без обиняков подразумевался Ломоносов. Потому у президента испрашивалось официальное распоряжение, чтобы «профессоры, характер имеющие, должность свою исправляли по академическому регламенту».
Рихман в сваре не участвовал. Он и ранее всегда стремился утихомирить скандалы в академии, но безуспешно. В разговорах же корил Ломоносова:
— Плюнул бы и не связывался. Их же не переспоришь.
— Нет, Георг Гельмович, надо спорить. Не будем противодействовать — шумахеры всё заполнят, в каждом деле подножки ставить будут. Потому, ежели совсем его отбросить, вместе с его камарильей, сил пока нет, надо его, где можно, до времени хотя бы осаживать. Тут пришлось, тут и осажу.
И уже со своей стороны написал изложение случившегося Разумовскому и Шувалову. Написал гневно, требовательно. Воззвал к патриотическим чувствам российских вельмож, призвал вступиться за русских учёных. И не ошибся — подействовало. Из Москвы, где ныне был двор, пришло Шумахеру строгое указание: «В дела академиков не мешаться», самочинных регламентов не устанавливать, свару не подогревать!
Зашипел Шумахер, съёжился, будто плевок на горячем железе, и опять на время затих. Ломоносов же, восстановив справедливость, более о том не вспоминал, снова весь в дела ушёл.
Совсем тесна стала лаборатория. Не развернуться, не осуществить того, что задумано, чего хочется. Ломоносов оглядывал низкий сводчатый потолок, смотрел на своих трёх запарившихся помощников, неизменного Клементьева, молодых Васильева и Мельникова, и всё более убеждался, что разворачиваться надо шире. Больше надо простору, больше людей. Иначе стеклянного дела на должную высоту не поднять.
Читать дальше