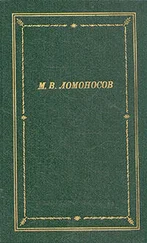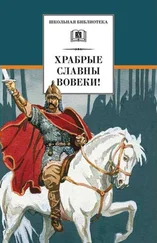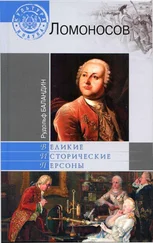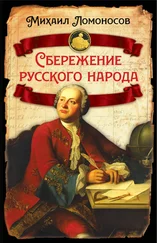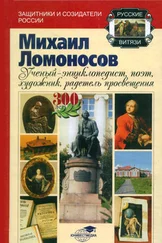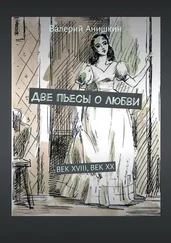— Интересно мне с Ломоносовым, — отвечал он доброхотам и шептунам. — А брюхо... Так брюхо никаким жалованьем под завязку не набьёшь. Коли хотения его своим несогласием не оградишь, ему всякого жалованья будет мало.
А Ломоносов открывал красочные дали и вёл за собой других:
— До познания всех цветов радуги в стекле обязательно дойдём. Но должно для этого избрать кратчайший путь експеримента. В каком порядке что перебирать, смешивать и варить. Тогда найденное по пути теряться не будет, всё останется в копилке, и цели достигнем.
В специально заведённом толстом лабораторном журнале рисовал Ломоносов квадраты, писал в них номера ящиков с песками, глинами и присадками, а потом те квадраты соединял карандашными линиями со стрелками, объединяя их в схему. И та схема помогала последовательно перебрать все нужные комбинации, не повторяясь и не путаясь в них.
Чтобы всю эту дорогу пройти, сидеть в лаборатории приходилось безвылазно, ни лета, ни зимы не видать. Как-то здесь же, расслабившись после очередной плавки, написал Михаила на смятом листке:
...о лете пишу, но им по наслаждаюсь
И радости в одном мечтании ищу.
Действительно, об отдыхе более помышлял, нежели отдыхал на самом деле. Но зато дело двигалось.
— Вот мы уже и понимаем, какие смеси какие цвета дают, чего куда надо добавлять и чего отнимать, — говорил Ломоносов, разливая в тысячный раз по формам очередную порцию жидкого, матово сияющего варева, которое, застыв, образует цветную смальту. — Как все цвета получим и рецепты их запишем, картины начнём собирать из тех стеклянных пуговок. И картины, знаю, будут не хуже итальянских. — Это была красивая, сияющая радугой цветов даль, и Клементьев шёл с Ломоносовым к ней, не зажмуриваясь.
Строить мозаику начали сразу с большого. Из собрания Шувалова выбрал Михаила Васильевич мадонну с младенцем, а по-русски — Богоматерь, исполненную итальянским живописцем Солименой [139] Солимена Франческо (1657—1740) — итальянский живописец.
, и решил скопировать её в мозаике. Сложна была картина, мягкие полутона тепло осеняли строгое лицо женщины-матери, покрывало ниспадало волнистыми, кажущимися объёмными складками. Цвета были мягкими, подчёркивая нежность и любовь, олицетворяемую мадонной; они возвышали душу, пробуждая мысли добрые и светлые. Ломоносов выбрал именно Богоматерь, ибо намеревался подарить картину Елизавете, а та была богобоязненна и потому иного сюжета могла бы и не оценить.
Серьёзно подошёл к сему предприятию Михайла. Сам рисовал неплохо, но всё-таки всё на себя не взял, подумал, что художники, осенённые большим талантом, чем он, полезнее будут. Да и смену надо готовить из нарочито приставленных к мозаичному делу молодых людей. И потому добился через Академическую Канцелярию права выбрать себе в помощники двух самых способных учеников рисовальной палаты, что состояла при академии же. Долго рассматривал ученические рисунки, перебирал, оценивал. Потом с их исполнителями беседовал и выбрал двоих: Матвея Васильева и Ефима Мельникова [140] Васильев Матвей Васильевич (ок. 1732 — между 1781 и 1786), сын матроса, и Мельников Ефим Тихонович (ум. 1767), сын мастерового, были с 1749 г. «живописными академическими учениками», а затем художниками-мозаичистами, помощниками Ломоносова.
. Работы их понравились, да к тому же юный их возраст обещал многое: Матвею едва исполнилось шестнадцать, а Ефиму и того меньше.
Далеко смотрел вперёд Ломоносов и хотел, чтобы дело его и после него долго жило в его учениках.
Образ Богоматери был готов к сентябрю 1752 года. Шувалов прислал рессорную тележку и мужиков, дабы доставить мозаику без повреждений. Сбитую на железном противне, двух футов высоты и на четверть меньше ширины, мозаичную картину с великим тщанием привезли во дворец. Хотели было сразу в церкви поставить, но пока воздержались; каменных образов до того не бывало, все писаные, и потому решили подождать высочайшего одобрения.
Дело было утром. Елизавета хорошо выспалась, а после пробуждения её приветствовал свежий, улыбающийся Иван Шувалов, и от того настроение императрицы ещё поднялось. В переменчивой дворцовой погоде и эта малость важна, красота мозаики легла на доброе расположение Елизаветы, и образ был принят с оказанием удовольствия. Она ласково погладила край картины, провела по складкам одежды, будто пытаясь убедиться, что они лишь кажутся объёмными, а в самом деле плоски. Затем перекрестилась на новый образ и повернулась к Шувалову:
Читать дальше