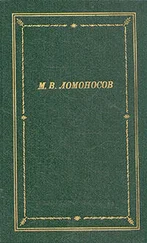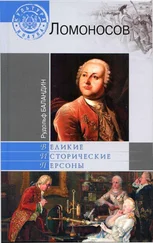Ушаков читал и молчал, лишь иногда гостя мгновенным взглядом окидывая. Многое о нём выяснил перед вызовом к себе, многое одобрил и теперь уже своё мнение составлял, не бумажное, личное. А Ломоносов сидел и думал, что вот и тут, за этим столом, тоже делается история. Ибо наивным не был и знал, как бывает: здесь ниточку дёрнут, а во дворцах, и не только на Неве, но и в других столицах, персоны запрыгают. А прыжки их иные зряшными окажутся, а иные породят дела, которые в историю войдут.
Наконец Ушаков оторвался от бумаг и каким-то совсем не приказным, домашним голосом спросил:
— Вот что, Михайло Васильевич, академик российский. Как же это ты с пробами руд так оплошал? А? На-ка вот, почитай.
И протянул ему две бумаги. Одна — его собственное, Ломоносова, заключение, вторая — заключение пробиреров Монетного двора. Читал их Ломоносов и потрясался. Как небо от земли, отличались пробы. «Что произошло?» И сразу стало ему понятно возложенное на него подозрение: основания к тому имелись; но страшно уже не было. Видел, что доверяют ему и ждут разъяснений. И разъяснение должно найтись, хотя он его пока не видит. Растерянно развёл руками:
— Как могло такое случиться? Не понимаю.
— Может, ошибся? — спросил Ушаков.
— Ну уж нет! — твёрдо и резко ответил Ломоносов, словно не в Тайном приказе на допросе, а у себя в академии с немцами спорит. — Всё, что изложил, — он показал глазами на своё заключение, — видел собственными глазами и за то ручаюсь. Может, в Монетном дворе ошиблись? — так убедительно ответил, что Ушаков и обсуждать более того не стал, пошёл по другой линии:
— Нет, Михайло Васильевич, там не ошиблись. — Помолчал, чтобы мысль закрепить, и продолжил: — Но и ты говоришь, что не ошибся.
— Не ошибся, — ещё раз подтвердил Ломоносов. — Вот, правда, блестели крупинки серебра слишком, то признаю. Не придал значения. Да ведь все признаки сопребывающие были налицо: и свинцовый блеск, и шпат известковый. Не знал я, что подозревать сие можно.
— Стало быть... — Ушаков чуть помолчал. Для него, умудрённого в сыске и раскрытии обманов, сия картина особой загадки уже не представляла. — Стало быть, подсыпали в твои пробы того шпату и свинцового блеску, который тебе глаза затмил. Подсыпать-то есть кому? Есть способные?
Ломоносов остолбенело смотрел на Ушакова, сразу же поняв, что это единственное объяснение случившегося, что иначе и быть не может. Потёр лоб и полуутвердительно-полуизумлённо произнёс:
— Подсыпали? Ну конечно, подсыпали! В академии минералогическая коллекция во-он какая! Чего хочешь найти и подсыпать можно!
— Так ведь надо знать, что подсыпать и где то взять. Кто это знает? — точно ставил вопросы Ушаков.
— Ну, это уже Силинс. Он и никто больше, — твёрдо ответил Ломоносов, — наш горнорудный знаток. Меня же ненавидит, наверное, поэтому и произвёл подлость.
— Ладно, — закончил Ушаков, — пощупаем твоего Силинса и выясним, кого он хотел подвести, а кого выручать. — Опять помолчал и, заканчивая теперь уже не допрос, а беседу, сказал: — А ты впредь на пробах будь осторожнее. Требуй запечатанные. — Затем встал и, подойдя к Ломоносову, добавил доверительно: — Ода твоя на восшествие хорошо написана. Читал. — И хитро посмотрел на Ломоносова, не говоря тому, чьё восшествие в виду имеет, хотя и так всё было понятно. И продолжил: — Только вот не ко времени вспомнило о ней твоё начальство и нам о том донесло. Ну да это тоже к подсыпке отнеси, — и поморщился. Такие ли подлости по своей должности видывал!
Потом проводил Ломоносова до двери, крикнув:
— Эй, кто там! Проводите господина академика к выходу.
Когда пристав приехал на тележке с вызовом Силинса в Тайный приказ, тот от страха лишился языка. Шумахер, бледный, весь в крупных капельках пота, текущих по лицу, метался между Силинсом и господином приставом, которого усадили в кресло и поднесли вина, умоляя дать Силинсу время прийти в себя, собраться. Пристав вино выпил, крякнул, утёр усы, но велел не мешкать.
— Признайтесь, что подмешали пробы! Сразу признайтесь, — настойчиво шептал Шумахер трясущемуся Силинсу, который беззвучно открывал и закрывал рот, бессмысленно глядя перед собою. — Но, я умоляю вас, не упоминайте меня, — продолжал Шумахер. — Поймите, мы тогда все погибнем. Все. И вы тоже. А так вас сильно не накажут. Скажите, что сделали это из нелюбви к Ломоносову! Только! Слышите? Только из личной неприязни к нему!
Силинс, с закатывающимися от страха глазами, судорожно дёргая жирной щекой, еле волоча ноги, шёл к тележке, поддерживаемый под руки Шумахером и Бакштейном. Всегда красноватая физиономия Бакштейна теперь покрылась яркими пятнами, очки запотевали и потому не сияли обычным блеском. Шумахер всё что-то шептал Силинсу на ухо, гладил его по плечу, и, когда тот безвольно свалился в тележку пристава и та тронулась, оба умоляюще протянули к ней руки, и Шумахер, уже вслед, закричал:
Читать дальше