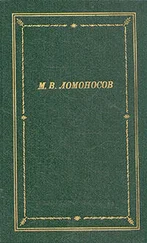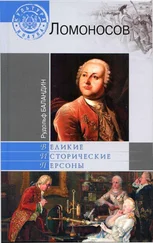Предлагал в этих записях внедрять в народ правила, медицинскую науку составляющие. «По всем городам довольное число докторов, лекарей и аптек завести». И вот ещё хорошее дело, — сам себе заметил Ломоносов, — да пока не нашёлся медик, к тому способный. — И прочёл: «Надобно собрать дело знающих повитух и особое наставление об искусстве повивальных бабок издать». И добавил: «Чтобы всё по науке было, по само дело их простыми словами изложить, без латыни. Чтобы и необразованная повитуха понять могла». — Отчеркнул лист как важный, поставил номер, вложил в папку.
«Ещё к тому же», — вскинулся Ломоносов, вспомнив баталии о флогистоне. И дописал в бумаги: «Надобно по церковным правилам разрешить воду в купелях для крещения обязательно подогревать». И в памяти возник варварский указ Обидоносцева, будто он был злыднем болотным, а не православным иереем, о запрете подогревания воды по причине натекания флогистона. Ломоносов зло передёрнулся от неприятного воспоминания: «Вот тебе и абстрактное знание о природе теплоты. Вред-то уж куда как конкретен. Я бы вот таких грамотеев обидоносцевых на площади кнутом бил, чтобы к народу подобрели». Но мысли этой, конечно, не записал.
В той же папке перечитал свой совет не женить в юности насильно. Качнул головой одобрительно: «Всё верно. От них потомство пойдёт непрочное, ибо до двадцати пяти лет парень ещё не муж, но вьюнош. Вон и в природе то же: к примеру, сохатый, пока сам в силе, бычка молодого ни за что к самкам не допустит, хотя те и лезут. Бережёт породу. И потому наказать надо мужикам подбирать жену не ранее тридцати с лишком лет из девок осьмнадцатилетних».
Ухнула пушка в Петропавловке — полдень. Оторвавшись от бумаг, Ломоносов увидел, как потемнело за окном, нависло. Налетел порыв ветра, стукнул створкой приоткрытого окна, занёс несколько шальных дождевых капель. Ещё более сгустилось на небе, ещё порыв ветра, и как грохнет за окном, как ахнет, загремит, будто сто пушек одновременно вдарили канонаду. Окно со стуком распахнулось. Ломоносов захлопнул папки, хороня бумаги, сдвинул их, сложив одна на другую, и встал у окна.
Хлестнуло дождём, словно прорвало, и вдруг раскололось небо огненным деревом, ветвями вниз направленными, и через мгновение-другое ударило громом по ушам, аж страшно стало. Потом ударило ещё; за окном грохотало и било неистово, без передышки. Ломоносов жадно вдыхал острый весенний воздух, смотрел на небо, на тучи, ловил взглядом молнии, содрогался и восхищался неукротимостью разыгравшейся стихии.
— Сила-то какая! Ах, какая сила немыслимая!
И вдруг в голове, как та молния, сверкнула мысль: «А ведь это електричество! Оно, електричество, и ничто другое! — И он удивился, как это до сих пор никого эта мысль не осенила. — Из лейденской банки искорка маленькая, здесь вон какая! Но ведь похожи как! Значит, явление то единое — електричество. Стало быть, и молнию можно ловить, накапливать, в банки, подобные лейденским, загонять? Ловить грозовое електричество!»
И жутко стало и страшно от этой мысли, но восхитительно. Восхитительно оттого, что можно это сделать, можно! «Поймал же человек ветер. Заставил корабли парусные гонять, мельницы вертеть. Заставил работать!» И Ломоносов, радуясь своему прозрению, своим догадкам, удало закричал в окно:
— Ого-го! Молния! И тебя поймаем! И тебя заставим работать! Ого-го!
И хоть темны века будущего и не дано смертному заглянуть в них, на секунду показалось Ломоносову, что пронзил он их мыслью и узрел в той темноте яркий свет.
На этот раз вызов в Тайную канцелярию обошёлся без пристава. Пришёл рассыльный, сдал бумажку под роспись академическому конторщику, а тот передал Шумахеру. Но всё равно был переполох, всё равно Шумахер, отдавая бумагу ту с вызовом Ломоносову, заглядывал в глаза и просил, уже просил взвешивать каждое слово, не говорить лишнего. Разумеется, только о благе своего профессора и вверенной ему академии заботясь.
В Тайном приказе сегодня ожиданием не томили, сразу провели в кабинет к Ушакову. Ломоносова встретил суровый взгляд из-под серых бровей на большой лысой голове. Оторвался взгляд от бумаг, просверлил Ломоносова, сделал знак сесть и опять в бумаги уставился.
Ломоносов сел, огляделся, увидел большой стол, заваленный папками, а за столом уже старый и, видно, усталый человек сидит, внимательно бумаги читает, пометки делает, думает.
«И здесь бумаг полно, — решил Ломоносов. — Не только у вас и академии».
Читать дальше