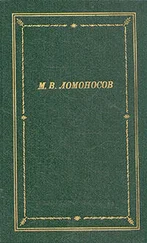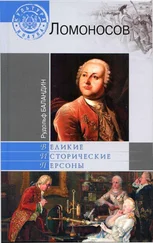То, что подвохи ему возможны, всегда знал, но что ещё и с этой стороны придёт посрамление, и в разум не брал. А должен был бы, ибо среди недругов работал, и те ему ничего не забыли и ничего не простили.
С теми результатами незамедлительно и пошло заключение Ломоносова из академии в Тайный приказ. А пробиреры государственного Монетного двора, что в Москве помещается, заключили иное: «Самородного серебра в пробах было весьма мало или ничего не явилась, а связанного и вовсе нет. Блестки же серебра были явно пилёные и в землю недавно подсыпаны, что видно по отсутствию должной черни. О том же говорит и совершенное отсутствие сопутствующих признаков: ни в одной пробе нет ни известкового шпата, ни свинцового блеска, ни медных примесей».
Не добрались до Москвы Лилиенфельды, не успели: опередил их Тайный приказ срочностью исполнения.
Пётр Зубов тоже стоял на своём недолго. При втором уже допросе с пристрастием признал всё. Земли серебряные — одна видимость. Он сам в те мешочки серебро спиливал с креста серебряного. И тот крест, пилой обглоданный, до сих пор у него дома в Холмогорах лежит, там его и найти можно. И в убийстве Федьки признался, и в том, что ждали гонца, но береглись очень. И ему, Зубову, было велено держаться сторожко и, если что заподозрит, немедля принимать меры крутые. И за то блага ему обещаны великие, а пока отвалили шестьдесят рублей серебром, и он их до поры закопал на своём подворье.
Ушаков зло тряхнул головой и, поджав губы в усмешке, подумал: «Шестьдесят серебром. Ну хорошо, что не тридцать [133] Ушаков намекает на библейскую легенду о Христе, которого предал Иуда за тридцать сребреников.
! Цены растут!»
Зубов лизал языком пересохшие от страха и боли губы. Глаза опять метались в испуге и муке. Понимал уже, что попал в безысходность, прощения ему в этом деле не будет, и только пощады надеялся вымолить чистосердечным признанием. Показывал, что знал.
Хозяйка его Лилиенфельд и въедливый офицерик Иванов взяли Зубова в клещи. Он уже несколько раз якобы по торговым делам мотался между Петербургом и Холмогорами. Иванов сообщения в пакетах слал с ним, и обратно ему Зубов привозил пакеты, а что в них — ему неведомо. Но про корабль догадался, ждали его давно. И на том корабле неизвестные Зубову высокие персоны из узилища, которое охранял Иванов, должны были уплыть. Куда, тоже не знал.
Но Ушаков теперь уже всё то знал хорошо. В Пруссию намеревались увезти отстранённого императора и его родителей — Анну Леопольдовну и Антона Ульриха Брауншвейгского. И потом смуту посеять и войну начать с привлечением к себе сторонников императора в России, дабы посадить эту Брауншвейгскую династию на российский престол. И Пруссии то сулило неисчислимые выгоды. А вот какие жертвы и мучения Россия от этой войны претерпеть могла и возможные от смены царя потрясения и смуту, того Ушаков, даже зажмурясь, вообразить себе не мог.
И потому немедля отправился к императрице для получения дозволения на скорейшие и решительные действия. И нимало не беспокоился, что иной раз послы царственных особ по году ждали аудиенции. Про себя знал: немедленно принят будет, чем бы императрица ни занималась.
Но то заключение из академии, так с правдой не согласующееся, Ушаков в уголок своей памяти отложил, с тем чтобы, решив дела важнейшее, и с этим малым злоумышлением разобраться.
Императорский бал-машкерад в огромном раззолоченном зале полудостроенного Зимнего дворца гремел весёлой музыкой придворного оркестра, полыхал жаром тысяч свечей, метался соцветием сотен костюмов. Пахло разгорячёнными телами, в нос били пряные запахи мускуса, духов и венгерских вин, разливаемых гостям ливрейными лакеями.
Григорий Теплов скромно стоял у стены, чуть позади разодетого в пышный зелёный с золотом костюм президента академии Кириллы Разумовского. И костюм Кириллы был Теплову, вроде бы ко всему привыкшему и ради угождения ничем не гнушавшемуся, смутителей и странен. И лишь то, что странен был не один Кирилла, а и многие мужчины и дамы, хоть и не убеждало Теплова, но успокаивало. Да и Кирилла чувствовал себя неуютно, ёжился, оглядываясь по сторонам, и часто посматривал на Теплова, который по привычке, сам не веря себе, ободряюще улыбался.
Костюм Кириллы составляла пышная, в два обхвата, зелёная юбка на каркасе из китового уса, обшитая по подолу двумя рядами золотой бахромы и позументов. Талия, вернее, то место, которое они вместе с Тепловым с трудом отыскали при одевании и нарекли талией, утянута в громадный корсет. А поскольку Кирилла всё же был мужчиной и декольтировать ему было нечего, плечи и грудь его укрывали воланы голландских кружев, а голову — дамский парик.
Читать дальше