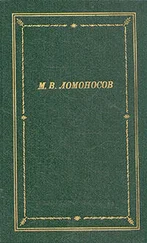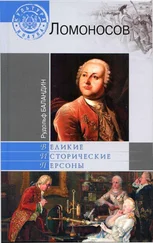Но ежели серебро есть, то Зубов один во всём виноват будет, а головы — те, к кому он приехал, — за то серебро спрячутся, ни при чём смогут оказаться. И даже если Зубов под пыткой признается, это можно будет за оговор выдать. Под пыткой, дескать, чего человек не скажет, а где доказательства?
Задумался Ушаков. Тёр ладонью огромную плешь; парика в Приказе и поездках, естественно, но носил, надевал его лишь в редкие выходы ко двору или в Сенат. И ничего не придумал иного, как изъять те земли в мешочках у Лилиенфельд и незамедлительно направить их пробирерам Монетного двора. А для достоверности также на пробу и в Академию наук.
Сие было исполнено тут же, с огромным переполохом и суетой в доме Лилиенфельд, у которой оттого сделался судорожный припадок. Но руды предполагаемые действительно нашлись, и были они, как и говорилось, в отдельных мешочках, и там же бумажки с номерами вложены. А уж где каждый номер взят, то тайна рудознатца, и он, пока челобитной на откуп тех земель не подал, говорить о тех местах не обязан.
Землю из мешочков разделили и тотчас же повезли в Монетный двор в Москву и в Академию наук. И руда, доставленная в академию, была передана на химическую пробу профессору Ломоносову. На той землице в мешочках, привезённой из Холмогор, и пересеклось дело о государственной измене с линией жизни уроженца Холмогор, российского академика Михаилы Васильевича Ломоносова.
Идти на очередное заседание Ломоносову было тошно. С души воротило сидеть в апартаментах, слушать нудные речи, спорить о бесспорном, доказывать ясное, на опостылевшие рожи смотреть, брань и уязвление слушать.
Таково интересны свои научные дела, коими он занят, за что, собственно, ему от государства корм идёт и деньги платят.
Но, тяжело вздохнув, Ломоносов писание должен был оставить: надо идти заседать.
Шёл до Конференц-зала как лямку тянул. По дороге остановился, хотя и причины не было, заговорил с Симеоном. Старик был неизменно бодр, позиций старости не сдавал и по-прежнему исправно нёс свою службу, только разве что от исполнения наказаний розгами, ссылаясь на возраст, стал уклоняться. Но работа сия была нужная, и потому для неё быстро нашли другого.
— Ну что, Симеон, как должность правишь? Не тяготит?
— Всё хорошо, Михайло Васильевич. Служу.
— А как штоф твой? Не проигрываешь ему баталий?
— Пока держусь! Но поздоровел бес зелёный! Быстрее меня одолевать стал, ох быстрее, нежели ранее. Что и говорить!
— Ну, держись, Симеон, держись, мужик. Пока стоишь — жизнь продолжается! — И, теперь уже не сворачивая, пошёл в Конференцию.
Нынче дебатировалось происхождение языка славянского и его самостоятельность. Миллер, несмотря на неоднократное разгромление своих позиций, учинённое ему Ломоносовым с немногими россиянами, ему помогавшими, продолжал упорно доказывать, что русский язык с норманнским родствен и от него идёт. Имена варяжские в пример приводил: Владимир у него шёл от Вальтмара, Всеволод от Визвальдура и тому подобное.
Ломоносов сидел, слушал такую речь и сначала молчал, надеясь, что глупость сего сама собой всем очевидна станет. Но потом не выдержал и захохотал громко. Байер, который тоже, как историк, Миллеру поддакивал и посему обиделся, шикнул на Ломоносова, указуя на неприличие его смеха.
— Да что в том неприличного, — возразил Ломоносов, — когда подобные объявления, окромя смеха, ничего и вызвать не могут. — И опять заулыбался широко от пришедшей в голову мысли. — Вот ты Байер, да? — громко спросил Ломоносов, как будто сам того не знал, не обращая внимания на неодобрительный гул голосов. Байер недоумённо взглянул на него, а Ломоносов продолжил: — Так вот, по рецепту Миллера, тобой одобренному, ты и не Байер вовсе, а Бурлак. Понял? И не от немцев производишься, а от волжских бурлаков.
На задних стульях послышался смех и одобрительные возгласы. Ломоносов остановился, наблюдая за впечатлением, и затем спросил насмешливо:
— Ну как? Верно сие? — И, уже раззадорившись, уже опять почувствовав прилив энергии, подъём, желание лезть в драку, потребовал слова: — И как вам в голову такое приходит, — заговорил он, обращаясь и к Миллеру, и к большинству Конференции. — Чего это вы всё нас, россиян, принизить, умалить хотите? Вы посмотрите, как обширен славянский мир! От Дона и Оки искони, а ныне и от Великого океана с востока до Альбы [129] Эльбы.
на закат; от Чёрного моря на юге до Варяжских морей и Белозера на севере простирается. Это вам как, малая землица? Островок несамостоятельный? — И, не делая передышки, Ломоносов наступал далее: — Вы прекрасно знаете, сколько народов говорит по-славянски. А забыли — так я перечислю. — Ломоносов вдохнул воздух, приосанился гордо и, не обращая внимания на негодующие лица, стал внушительно перечислять: — Слушайте — чехи, лехи, моравы, поморцы, они же померанцы, славяне по Дунаю, сербы, славянские болгары, поляне, бужане, — перевёл дух и крикнул: — Вспомнили? Так это не всё, ещё нате: кривичи, древляне, новгородские славяне, суждальцы. Добавьте ещё казачество забайкальское и амурское, а теперь уже и в Америке того гляди по-русски заговорят! Ну, хватит?
Читать дальше