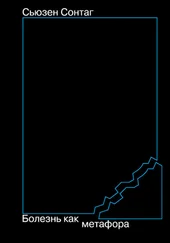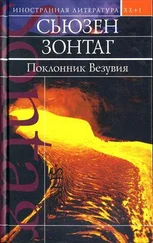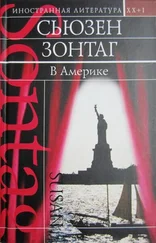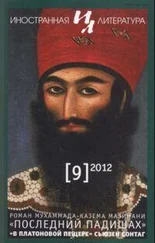Мой муж с любовью представлял меня другим как богомольную отшельницу. По своей натуре я не склонна к затворничеству. Но преодолеть в душе своей неприязнь к постыдным выходкам и тупоумию не смогла, а поскольку муж вынужден был все время вертеться при дворе, то предпочитала не ходить туда вместе с ним, а общаться в это время с кем-нибудь еще.
Удовольствие я испытывала, только находясь рядом с мужем. То, что я получала от музыки, назвать удовольствием вряд ли можно, поскольку это было все же напряженным занятием, а не развлечением. От музыки у меня душа замирала и перехватывало дыхание. Музыка зачаровывала меня. Клавесин становился моим голосом. В его чистом звуке я слышала себя. Придумывала изящные мелодии, которые, однако, не блистали оригинальностью и не удовлетворяли мое честолюбие. С гораздо большей уверенностью исполняла я музыку других.
Поскольку все придворные и вообще весь высший свет должны были регулярно посещать оперный театр, я притворялась, что мне нравится опера, а вот мужу она действительно нравилась. Я вообще не люблю театр. Мне не нравится выдуманная, фальшивая жизнь. Музыку смотреть не надо. Она должна быть чистой и целомудренной. Об этих своих взглядах я не признавалась никому, с кем вместе бывала в театре, даже Уильяму, этому пылкому, несчастливому молодому человеку, который объявился под конец моей жизни и пробудил во мне ощущение уверенности, что тебя понимают и я сама понимаю собеседника. Уильяму я могла откровенно говорить о страстном стремлении к чистоте и целомудрии; в его присутствии смело признавалась в своих склонностях, несовместимых с моим положением в обществе. Меня нередко называли образцом добродетели, ангелом во плоти — комплимент довольно смехотворный, но, когда эти слова произносил Уильям, я воспринимала их как искренние, идущие от благородного сердца. Думаю, что под этим он имел в виду свою любовь ко мне. К нему я относилась по-доброму. Он был мне другом, и, думаю, считал меня тоже своим другом. А потом я поняла, что он воспринимал меня больше, чем другом, — ангелом. Это меня, которая ко многим вещам относилась с излишней долей юмора. Как-то раз, когда мы в четыре руки играли на пианино сонату, он встал из-за инструмента, присел на софу, откинулся и прикрыл глаза. Когда я попросила его не принимать близко к сердцу нашу игру, он ответил: увы, оказывается, правда, что музыка убивает меня, а еще хуже, что мне нравится, когда меня убивают. Я храню молчание, а должна читать нудную мораль, ибо понимаю, что ничего путного произнести не смогу.
Я могла бы сказать, что меня убивает не музыка, а скорее, я уничтожаю других своей музыкой. Когда я играю, то для меня даже мой супруг перестает существовать.
Я была моложе своего мужа, но молоденькой себя никогда не чувствовала. Представить себе, что моя жизнь могла бы сложиться лучше, я не в силах. Меня привязывали к себе женские слабости. Моя душа прикипела к его душе. Себя я не очень-то уважала. К своему удивлению, нашла, что слишком уж много жалуюсь, ибо считаю, что удел женщины — извинять мужа, прощать его и смиренно нести свой крест. Кому мне еще поведать о своих горестях? Я не была ослеплена любовью, но тем не менее именно она принуждала меня порицать его. Я никогда не сердилась, никогда не испытывала недобрых или низменных чувств. Мне легко говорить об этом именно сейчас.
Думается, я все же должна признаться, что была несчастливой и одинокой. Но жалости к себе не прошу. Было бы унизительно жаловаться на свою судьбу, когда на свете так много действительно несчастных женщин, например, обманутых или покинутых мужьями или же родивших ребенка, чтобы тут же потерять его.
По-моему, моего мужа можно охарактеризовать как себялюбца. Говорить так мне, конечно, нелегко. Когда я начинаю искать в нем недостатки, то поневоле припоминаю, как привыкли люди его круга относиться к развлечениям и своим обязанностям и как люди с его характером стремятся с головой окунуться в море наслаждений, а моя старая любовь не позволяет мне высказывать обиду на невнимание ко мне. Я знаю, что ему иногда приходилось нелегко, так как он подчас принимался рассуждать о счастье и блаженстве. Когда я слышала его жалобы, то готова была на все, лишь бы ему стало хорошо.
Полагаю, что имею право назвать его циником. С женской непосредственностью он открыто высмеивал идею о том, что в нашем беспардонном мире нужно вести себя по-другому. Видимо, я даже имею право сказать, что он мог быть и жестоким, так как считаю, что он был человеком без нежностей. Можно, конечно, возразить и сказать, что он был мужчина, а нежные чувства присущи слабому полу, воздерживающемуся от борьбы с превратностями судьбы. Но вообще-то, я не верю, что это так и есть на самом деле. Наш беззащитный пол, во всяком случае большая часть его, так же не защищен от напастей, как и любой мужчина. И на свете, я уверена, есть немало мужчин с мягким сердцем, хотя лично я знавала лишь одного — своего доброго отца.
Читать дальше