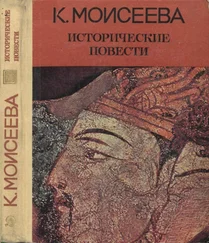— Как мне понятны твои мечты, сынок! И как радостно сообщить тебе, что мечты эти станут явью. Должен признаться, Дорион, что слова твои лучшая мне награда. Когда я вспоминаю твое детство в доме Праксия, я вижу твое печальное личико. Думаешь, я не видел, как тебе трудно и не по возрасту твое занятие? Я заставлял тебя переписывать поэтические строки Горация и Катулла, философские размышления Сократа и Аристотеля в том возрасте, когда душа жаждет радостей и развлечений. Но я знал, что ты смышлен, и мне ничего не оставалось, как воспользоваться твоей смышленостью, чтобы вырвать тебя из лап рабства. И как мы были счастливы в тот день, когда я отдал Праксию выкуп за тебя, Дорион. Когда получил право считать тебя вольноотпущенником. Кстати, сейчас я могу тебе сказать, что Праксий был человеком благородным, он взял небольшой выкуп. С ним было легче договориться, чем с госпожой Мирриной. Мне горестно вспоминать о последних днях его жизни, когда он уже не мог продиктовать того, что хотел, не мог сказать того, что думал.
— Почему же он не отпустил тебя, отец? Он ведь сознавал, что дни его сочтены? Я в Риме много раз слышал о том, как благородный господин дарует свободу рабам чуть ли не за день до своей смерти.
— И в Афинах так бывает. Но господин наш Праксий очень ценил честность и преданность своего переписчика Фемистокла, это и погубило меня. Господин пожелал, чтобы я оставался при Миррине после его смерти. Он наказывал ей доверять мне и требовать моей помощи в делах поместья, при продаже наследства— у нее большие земли, наследство отца.
— Так ведь и вольноотпущенник Фемистокл мог все это выполнять! — воскликнул Дорион. — Не так уж благороден был наш господин, если не смог сделать добро своему верному Фемистоклу. А ведь тридцать лет поверял тебе свои мысли и открывал свою душу. Боюсь, что теперь нам никогда не расстаться с госпожой Мирриной. Как это прискорбно!
— Наши дела не так уж плохи, Дорион. Я обо всем тебе поведаю. Только доскажи, как это случилось, что ненавистная тебе философия стала твоей радостью? Я понимаю, что иные свитки напоминали тебе занятия в детстве. А дальше как было?
— Я уже сказал тебе, отец, что иные свитки переносили меня в мое детство. И как ни печально оно было, но я помнил время, когда рядом был ты и мои маленькие сестры. Когда я садился за стол, имея в руках папирус или пергамент с учением великих греков, мне казалось, что я возвращаюсь к вам, моим дорогим. Я не плакал, когда покидал вас, я храбрился и внушал себе, что в Риме я обрету счастье для всей семьи. Я думал тогда, что если бы была жива моя мать, она бы радовалась моему освобождению. А я, узнав на чужбине о ее болезни, смог бы прислать денег, чтобы доставить ее в Эпидавр, в храм Асклепия, где нашли исцеление многие греки. Я не плакал, но душа моя была в слезах. И странное дело, равнодушно переписывая непонятные мне строки, я вдруг обнаружил, что иные мысли привлекают мое внимание и заставляют призадуматься над вещами, прежде мне чуждыми. Так постепенно приобщался я к трудам великих мыслителей и поэтов. И настал день, когда я понял, что это занятие стало для меня источником радости. Я обрел радость познания мира. О, это очень много и очень привлекательно! Передо мной открывался мир, мне неведомый, загадочный и тем более заманчивый. Я вставал на рассвете и спешил в библиотеку моего господина. Надо тебе сказать, что Овидий Назон владеет настоящим сокровищем. У Праксия не было и половины тех редкостных свитков, которые есть в библиотеке Овидия Назона. Я думаю, что мне посчастливилось, если я десять лет мог брать в руки каждую из этих книг и каждый свободный час заниматься любимым делом.
— Запомни, сынок, слова старого Фемистокла, сказанные на ступенях священных Пропилей. Я еще не избавлен от рабства, но могу сказать, что сегодня самый счастливый день моей жизни. Согласись, не часто бывает такое, когда бедный, обездоленный человек может сказать, что сбылась мечта его жизни. Даже если ничего больше не сбудется у Фемистокла, знай: он познал счастье! У меня вырос сын, достойный похвалы.
Фемистокл опустил голову, чтобы скрыть слезы, но это были слезы радости. А Дорион от волнения не мог сказать и слова. Они молча спускались по мраморной лестнице Пропилей, взявшись за руки, — старый Фемистокл и молодой Дорион. Так они подошли к храму Зевса Олимпийского, где, согласно поверью, была священная трещина.
Только выйдя на старинную улицу Керамик, Дорион оживился. Каждый дом о чем-то говорил ему. Вот небольшой дом горшечника. Сюда они приходили с дедом и уносили на головах глиняные расписные горшки и миски. В ту пору дед уже не занимался перепиской — он стал плохо видеть — и потому выполнял поручения эконома. Маленький Дорион всегда сопровождал деда. Харитон с благодарностью говорил: «Ты, малыш, — мои глаза».
Читать дальше
![Клара Моисеева Осень Овидия Назона [Историческая повесть] обложка книги](/books/419024/klara-moiseeva-osen-ovidiya-nazona-istoricheskaya-p-cover.webp)