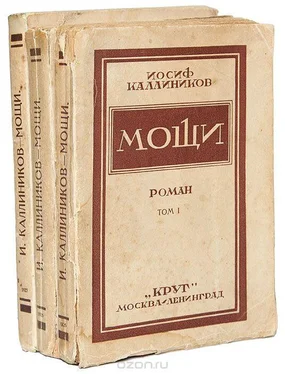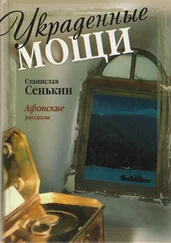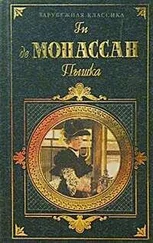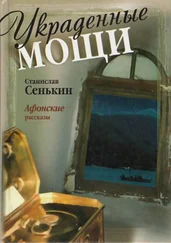Задом пятится Николай к воротам и слышит, как на резинках подъезжает кто-то.
Разулыбался мужик, замолчал, шапку скинул. Оглянулся Николай — Феничка: шапка соболья, шубка белая, — задрожало сердце.
И, не боясь уже трепальщика, навстречу к ней, как к знакомой, как к своей, к близкой.
— Фекла Тимофеевна, здравствуйте, — а я к вам!..
— Дядя Кирюша, это отец Николай…
— Очень приятно встретиться. Значит, приехали?..
И от безнадежности, нерешительности — к нахальству развязному — напропалую — напролом — будь что будет — один конец, почувствовал просто, должно быть, что не то что протопопом, и дьячком не придется быть в городе.
Но даже в развязности нахальной боялся Кирилла Кирилловича, и не его, может быть, а внешнего вида — выбрит иссиня, под сухими губами усы подстрижены и вечная трубка — говорил — в левый угол трубку и, опустив правый угол нижней губы, отчего казался и рот покосившимся, с придыханием бурлили слова горлом, а из-под широкого козырька кепки — остриями глаза сверлили.
Вперед его пропустил с Феничкой.
По лестнице в новую половину с парадного поднялись: в скуфейке бархатной, несмотря на холод, в том же подряснике люстриновом и — в белой шубке и шапочке: одного роста, а казалось, что Николай выше — сутулый и длинный в черном, и рядом, неузнанная иная — в белом вся и от белого — легкая и живая, — худенькая.
Даже боялся нечаянно задеть подрясником, не упала чтоб, не запачкалась.
И не знали, что говорить: почувствовал Николай, что иная теперь, чужая, совсем чужая, и все-таки шел, напролом шел, трусливая злость подымалась в душе, не на нее даже, а на неизвестное, путь ему преградившее.
Испуганно как-то, торопясь, шепнул:
— Феничка!..
Не ответила, не взглянула, только голову опустила ниже, а потом побежала быстро, быстро, точно боялась, что в темноте схватит и не отпустит, измучает, как в лесу летом мучал ласкою, и на лету, матери встретившей, с хохотом:
— Маменька, я с женихом, жениха привезла с собой.
— Еще какого жениха нашла?
— Отца Николая, маменька.
Скуфейку в карман сунул, пятерней по волосам провел и озираясь, как затравленный неожиданным смехом Фенички, у дверей притолки остановился в гостиной.
С грязью налипшею на сапогах нечищенных (от растерянности забыл вытереть), так топтался на месте, два шлепка сбросил на ковер старинный.
От обстановки не купеческой, а дворянской (сам Кирилл Кириллович из Москвы привез) оробел еще больше.
Точно толкнул кто сзади:
— Не стесняйтесь, отец Николай, — жениху стесняться не полагается.
И опять, точно от слов этих, с развязным нахальством и до конца уже так, до последней минуты:
— Антонина Кирилловна, мне поговорить нужно с Феничкой.
Дядя ответил, Кирилл Кириллович:
— С Феничкой?! Хорошо. Она придет сейчас. Пойдем Тоня, не будем мешать.
Посреди комнаты, в тишине, один — дышать даже трудно было и каждый толчок сердца, как бесконечное тиканье маятника, длился смертно.
С высокой прической уже коронкою, с напущенными завитками волос на висках к ушам пышными и углубленными глазами от пережитого и не девочка, а женщина, и не та, что в монастыре плакала, на скамейке подле дач со слезами землянику евшая, а смеющаяся (плевок жизни) всему, переступив пропасть, выбежала к Николаю.
— Я не ждала вас, отец Николай, и не думала, что придете к нам. Вы зачем к нам в город?
— К тебе, Феня, теперь совсем, — из монастыря ушел.
— Монахом, значит, не будете больше, да? Да вы сядьте, и я тоже сяду. Я на диван, а вы — в кресло, у нас протоиерей всегда садится в кресло.
— Мать твоя написала, что дядя согласен. Завтра я к епископу, просить благословение место занять в городе дьяконское. Будто не понимаешь, зачем приехал?! Феничка…
Приподнялся, протянул руки, обнять хотел, поцеловать ее.
— Не трогайте, не смейте. Я вам чужая — не люблю больше и не любила, знайте — не любила, обманом взяли меня.
— Как же так обманом? Я женюсь и дядя согласен, и мать написала.
— Зато я ничего не писала. А теперь говорю — уходите, отец Николай, не люблю… хотите знать — ненавижу!
— Да ведь ты не невеста — жена мне, а я муж твой, а муж все может… Я прощу, все прощу… Беременна, да? Говори, слышишь, говори мне! А то ведь я прикажу. Приказываю. Муж я.
— Никто мне теперь приказать не смеет. И не жена я теперь — нет ребенка. Говорите о другом, о чем хотите, не смейте на ты называть. Или сейчас же уходите от нас, — слышите, отец Николай, сейчас уходите!
Читать дальше