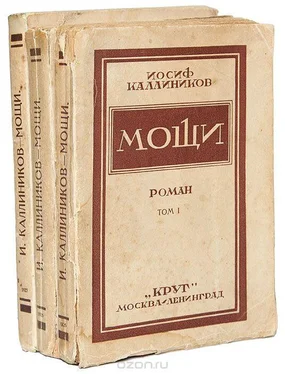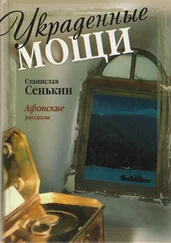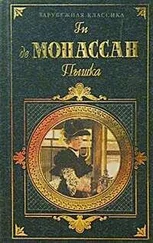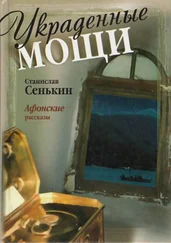— Эта поможет — дожидайся! Отвязаться она от тебя хочет. Не верь ей. Как кошка блудлива, а такие, брат, ничего не сделают, напортят только…
И по-дружески будто Афонька говорить стал приятелю, наклонился к нему, шепотком, а у самого огоньки в глазах бегали злые — в темноте разглядеть не мог Николай огоньки эти в глазах прищуренных. Нарочно и посоветовал:
— Самому, Николай, нужно это дело обделать, не верь Галкиной, брехло баба, а ты после обедни, что ль, али подкарауль где, да и подойди к ней, к самой, к Гракиной, и расскажи, как на духу ей сознайся — разжалобить ее надо, только б разжалобить, а тогда и крой сразу, что де Феничка, дочь ваша, жена мне, а я-де мужем ей буду, и теперь муж.
— С чего же я начну говорить с ней? Ай сразу, что ль?
— Тебя-то учить с чего начинать?!. Да хоть бы с того — разукрась ей житье прежнее и о будущем воспари ввысь, а потом и вали — выкладывай. А Галкиной этой — тебя замануть только, поводить за нос, а там и — свищи — лови, когда след простынет — уедут, и Фенички не видать.
— А правду ты говоришь? По-честному?!
— Я тебя, Николай, тож спрошу… Друг ты мне или нет?! Коли друг — верить должен. Ты не смотри что подрались мы, мало ли что бывает между приятелями… Лютость во мне говорила, взревновал я — уступить не хотел. Как другу тебе говорю, к самой ты ступай.
До плеча дотронулся даже, в глаза ему заглянул глазами окаменевшими, и поверил ему Николай. Караулить стал Антонину Кирилловну — два дня бегал: то в скит, то к елке царственной, то на дальний колодезь основателя пустыни, то на пустыньку — во все места, куда дачники ходили прогуливаться, на трапезу не ходил, на братию не глядел. Обманывался сколько раз, покажете ему — идет Гракина, между сосен не распознать сразу и давай бежать напрямик — потом остановится и зашагает к ней, подходить станет, раздосадует и опять назад.
Два дня ходил — отыскивал, и два дня тревожился о мечтах своих, — боялся, что уплывут от него капиталы Гракинские вместе с Феничкой, уж очень пожить ему захотелось, деньжонок скопить — к своим двугривенничкам прибавить да и в банк — процентики получать, и не на Гракинские капиталы — на Предтечинские, не бегать за ними, как за ложками — сами к тебе пожалуют с уважением да с почетом.
Один раз побежал после трапезы на пустыньку глянуть — нет ли,
— через Свинь по лавам с полотенчиком идет Гракина — прохлаждается, искупавшись.
Разулыбалась ему издали.
— К нам отчего не заходите, отец Николай?
Сама начала первая.
— Погулять бы куда нас сводили…
— Хотел я, было, Антонина Кирилловна, об одном деле поговорить с вами.
Сразу начал Николка — решился.
— Не поспею сказать, назад бы немножко вернуться… а мне бы хотелось сейчас, а то в другой раз не решусь я…
Нахмурился Николай, точно слова изнутри выжимал каменные.
В закатник дубовый повернули, насторожилась Гракина будто предчувствовала — пытливо ему в глаза заглядывала.
— Я как матери вам, как на духу — до капельки. Мать-то в гробу лежит и отца нету — сказать некому, так я вам. Из духовного я: деды, прадеды — протопопами благочиннили, а мой-то родитель — в бедности, горели два раза, оправиться не могли, тут и мать померла…
Задумался Николай, сломал ветку сухую, обламывал, сучки обгрызал и остановился, запутался, не знал, какие слова подобрать; точно суковинки изо рта сплевывал, точно они ему говорить мешали.
— Один ведь я, Антонина Кирилловна, один. Не по своей воле в монастырь пошел, епископ послал, службу учить велено, место мне обещал дать, а я-то тут сколько годов… — на восемнадцатом я пришел, и как в прорву, восемь лет в прорву. Не монах я… В болото попал, трясину, — не выдерешься из ней. Все в прорву…
Ничего понять не могла Гракина — тревожно стало ей, думала, что просить ее хочет о чем-нибудь, либо в любви ей признаться, не про Феничку, а ей, вдове, молодой вдове — пожалела чтоб. И в самом деле жалко ей стало, видела ведь, что мучается человек, и не то, чтобы любовь, а жалость, бабья жалость, руку ему на плечо положила, сказала слово душевное.
— Ну да что у вас, что?! — пододвинулась даже, — говорите!..
— Феничку я люблю, уж так я люблю ее, Антонина Кирилловна…
Не положила бы руку на плечо — не сказал бы ей, а тут, точно дух перевел, вздохнул как-то всем телом и выпалил, и понес, как сорвавшись, боялся, что перебьет, говорить не даст. И о капиталах не думал, оттого и не думал, что говорить было трудно, а говорил искренно, может, во всю жизнь так искренно говорил Николка только один раз, покоя ему захотелось, от сутолоки монастырской отдохнуть потянуло.
Читать дальше