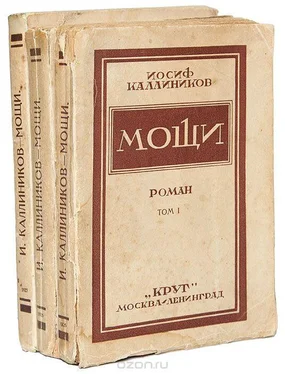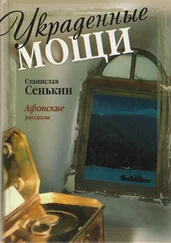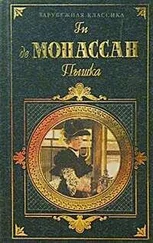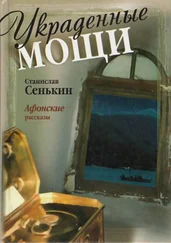Подошла, — спрашивать стал зло:
— Ждать заставляешь, — а то не приду больше, чего опоздала?
— Марья Карповна не пускала.
— Пойдем в лес. Чего она не пускала?
— Знает она.
— Сказала, что ль? Зачем говорила? — я просил же, молчать просил.
В лес вошли, — обнимать его стала, поцеловать хотела.
— Коленька, милый, — может, в последний мы раз видимся.
Обозлился, — испугался, что пропало все, жизнь пропала, — не видать капиталов Гракинских, и оттолкнул Феничку.
— Целоваться-то после будешь, — говори, зачем говорила?
— Она сама догадалась, — по глазам узнала, — потемнели они от этого, вот и узнала, — я не подумала, что потемнеть могут, не знала про это.
— Что ж теперь делать? Конец, значит?
— Коленька, милый, поцелуй меня, — может, еще не конец, — ну, поцелуй, только раз поцелуй. Марья Карповна добрая, она поможет мне. Не верю я, что в последний мы раз видимся, и боюсь все-таки, а вдруг в самом деле последний?..
— Зачем говорить надо было, — просил кто?!
Поцеловал ее жестко, от злости сдавил всю, даже больно Феничке стало.
Никогда я тебя не забуду, Коленька, — никогда…
— Пойдем в лес, а то некогда мне сегодня долго гулять с тобою…
Жалась к нему ласково, ласки ждала последней, от любви плакала, а он только поглядывал зло и нехотя целовал, чтоб не плакала больно. А потом мысль у него мелькнула, что, может, в последний раз в самом деле и не придется побыть с нею больше, а другую не сразу найдешь, только ходить надо, пока своего добьешься, и стал целовать ее жадно и зло с досады, что надеялся только на жизнь хорошую, и ничего не вышло из этого, только мечтал зря, зло целовал, жадно, впивался до боли в губы Феничке, пока опять голова не пошла у ней кругом, пока сама не позвала, пока сама просить ласки не стала, — ломался, не хотел долго, напоследок хотелось помучить ее, а потом, как и в те разы, утомил бесконечным желанием назло, чтоб ребенок от него остался, пусть после возятся с ним — зато помнить будут…
Поднялся с хрупкого моха, — сказал:
— Ну, что ж — не приходить, значит, больше, в последний раз видимся?
— Может, и нет, Коленька. Может, еще вместе будем жить, всю жизнь.
— Это как же?
— Тебе Марья Карповна придти к ней со мной велела.
— Зачем это?
— Не знаю, милый — пойдем, Коленька, она добрая, она нам поможет.
Пошел с ней и думал дорогой — идти или нет, а потом и поверил, что, может быть, еще и выйдет что-нибудь, может, и в самом деле устроит она что-нибудь, и опять ласковым стал с Феничкой, обнял даже ее и шептать стал:
— Ты прости мне, что я разозлился, — уж очень обидно мне стало, что и любить-то нельзя нам, а все оттого, что монахом стал, за монаха считают все, а какой я монах?..
Опять утомленная пришла Феничка к Марье Карповне и Николая с собой привела, — та как увидела, так и накинулась на него, — отчитать захотелось его.
— Ты, паскуда, что с девкою сделал, зачем опорочил невинную? — ты думаешь, что монах, так и управы нет на тебя, — живо в Соловки запрячут.
— За этим-то и звали только?
— Ты еще огрызаться смеешь?
— Да вы говорите толком — зачем звали? — Ведь я ее не силком же — спросите! И опять же люблю ее, — жениться на ней хочу.
— Жениться он хочет?.. Да тебя на порог к ним не пустят! Знаешь ты это?
— Из духовного я, — женюсь, архиерей дьякона мне даст — жить будем.
— Ну, чтоб духу твоего тут не было больше, и девку ты мне трогать не смей — не видать тебе ее больше, пока женою не будет тебе, — слышишь, что я говорю тебе? Ты думаешь что? — девку мне жаль, для нее буду стараться, может, и выйдет что, — хоть мать-то у ней и камень, а все-таки мать ей, может и выйдет что, только чтоб духу твоего тут не было, когда нужно будет — сама позову. Дён через пять приходи, когда сама будет — гулять приходи. Да слушай, что я говорить тебе буду: как в обедне поздней стану подле клироса самого, значит приходить гулять нужно. А теперь вон убирайся!..
И зло, и надежда в Николае жили. С досады зашел водки купил по дороге в келию свою, в каморку Михаила позвал:
— Миша, приходи вечером.
— Угостишь, что ли?
— Раздобыл я казенки.
— Разбогател значит, — ладно, приду.
После трапезы вечерней, когда стемнело совсем, Михаил пришел. Огарок зажгли церковный и пить стали, до утра самого пили, закусывали хлебом соленым.
С досадой Николай пил, боялся, что потерял все, всю жизнь потерял, а другой раз разве подвернется такой случай?..
Пьянел медленно…
Михаил на топчан повалился и храпел, всхлипывая, а Николай остатки еще допивал и — когда зазвонили к утрени — повалился на стол и, сползая с табуретки, повалился на пол, стукнувшись головой о топчан.
Читать дальше