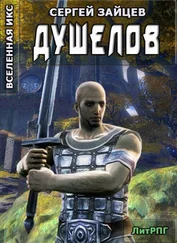Делать нечего... Любомира оплакали и много медов извели на плаче том. Может, сгинул княжич, может, нет, но ждать его перестали, а вскоре и вовсе забыли. Лишь изредка поговаривали разное знающие люди.
Тогда понял Келагаст Веселин, что не оставить ему наследника. И подумал властитель гордый, что тяготеет над родом его некий злой навет. А что причиной тому навету — неизвестно. Может, мало жертвовал богам, и те не проявили заботу; может, обидел ненароком многовластного волхва, за простолюдина приняв, и тот обиды не смог простить, искусство тайное, могучее обратил против Келагастова родового древа.
Да как-то при объезде вотчины подвернулась на глаза риксу Дейна-краса, дева-валькирия, из тех, про которых говорят: «Она по воздуху легко носится, скрытые крылья имеет за спиной. Она по воде ходит, подола не замочив, — плавники у щиколоток спрятаны». Хороша собой, юна дева, гибка, как трава повилика, нежна-бела, как лепестки у кувшинки, глаза — озёра бездонные, губы — спелые ягоды. Всем взяла, смотри — не насмотришься; как заговорит — не наслушаешься; на ушко слово жаркое прошепчет, — кажется, голова кругом пойдёт. Сермяжная чернь, злая чернь, примученная тяжкой жизнью, на словеса скупая, на образы бедная, о деве этой много добрых слов говорила, любила её безмерно. И Белой Лебедью звала.
— Со мной поедешь, — сказал Келагаст. — Лебедь ты или розовогрудая горлица... Матерью шестого сына моего станешь. Не родишь — в яме со змеями сгною, ведьма!..
Нарочитый кольчужник подвёл к Дейне Лебеди коня и диво увидел: опустился конь перед ней на колени, чему до сих пор не обучен был, и ждал, пока не сядет Дейна в седло. А как села, заржал весело и осторожно поднялся; легко побежал, не дожидаясь понуканий.
Тогда усмехнулся Келагаст в седые усы и молча тронул узду.
Родилось чадо малое не под небо синее и не под звёзды яркие, а появилось в серых сумерках предрассветных. В это время не спали, говорили где-то злые языки: «Ведьма в подол свой ведьмаченка принесёт. Кого же ещё? Ей-ей! Не рано ли? Одарит ведьмаком и Келагаста-отца, и нас также, многотерпеливых. А подрастёт он, так покажет всем нечистое жало своё. От волчицы волчонок всегда происходит, от змеи — змеёныш. А от ведьмачки и подавно, тот и другой в одном получатся. Чего же ещё ждать, други? Нам его извести надо, пока мал и слаб. Не то сами задохнёмся потом под тяжкой десницей ведьмака! Придушит он нас...».
А сын Келагастов крупным родился, с громким криком не запоздал. И шумел на всю горницу, ручонкой крепко хватался за кривой палец старухи-лечьцы, ножками торопился шевелить. Казалось, поставь его, так и побежит сразу. Такого ещё и удержать суметь надо.
Чадили на стенах огоньки плошек. От тех слабых огоньков не много света, зато тени повивалок велики были и черны. Метались тени по стенам и полу, метались, подобные злым существам, которые только и ждут времени, чтоб разом наброситься на младенца, обволочь его чёрной мглой, густой, как мох, и не дать жизни.
И видела, и пугалась этих теней Дейна. Но тут же забывала о них. От усталости запали у неё глаза. Потемнели, отекли веки. Уходила боль, во всём теле являлась слабость, но Дейна превозмогла её, поднялась на локтях. Чадо увидела своё, и пришло любопытство. Хороший приметила знак: ребёнок ручками повёл, словно крылышками взмахнул; ребёнок ножками дёрнул, будто плавниками ударил по воде... Любопытство же сменилось удовлетворением, затем гордостью и, наконец, желанием защитить это новое, нежное и беспомощное, её собственное, от грубых, дряхлых, старых лечьц. И мечущиеся тени вызывали уже злобу, а не страх.
— Прочь! — закричала. — Все вон! Отдайте его мне. Не тронь ножом... Я сама перекушу, как волчица. Прочь!
Будто в беспамятстве, приподнялась Дейна на лаве, вцепилась руками в космы старух и трепала их седины, пряди рвала; старухи завыли от боли, взмолились.
Тогда тяжело навалилась на грудь Дейне старшая лечьца, хлестнула валькирию рукой по щеке.
— Лежи уж! — прикрикнула с угрозой. — Верно про тебя люди говорят: ведьмачка-волкоданка...
Пуповину натуго перетянули оленьими жилами, пересекли раскалённым ножом и замазали слюной.
Келагаст чуть не верхом в дом въехал. Как ворвался, так стены заходили ходуном, погасли в горнице плошки. Стал рикс в дверном проёме, тенью могучей стал на полотне занимающейся зари и глядел в темноту, на присевших от страха повивалок, тяжело дышал.
— Сын у тебя опять, добрый отец! — сказала старшая лечьца и, осмелившись, добавила: — Ты не шумел бы!
Читать дальше


![Сергей Зайцев - Мой алкоголизм [самоучитель отказа от алкоголя]](/books/128061/sergej-zajcev-moj-alkogolizm-samouchitel-otkaza-o-thumb.webp)