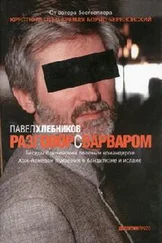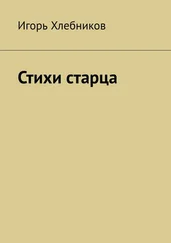— Так он же спать к жене ходит, Лымарь-то, — хмыкнул презрительно Служеникин. — А за людями присмотр нужен. Я ведь не по себе сам, я по приказу. Никандров приказал.
— Я отменяю приказ, — сухо сказал Кондратенко.
— Ну если так… — недовольно пробормотал Служеникин и покинул казарму, правильно поняв, что больше тут не нужен.
Пока мы выясняли отношения с колонистами, уточняли детали переселения и другие вопросы, Кушакова долго о чем-то говорила с мрачным чернобородым казахом, мужчиной лет сорока. Взгляд его черных глаз был диковатым, не допускающим какого-либо сближения. Этого, наглухо замкнутого в себе со своими душевными тайнами человека, побаивались все — и колонисты, с ним жившие, и все, кому приходилось с ним общаться. Служеникин, так тот звал казаха басмачом. «Дай ножик, не моргнув глазом, прирежет», — говорил он. Вот уже полмесяца «басмач» не выходит на работу. И если за ним посылают, «басмач» молча показывает ногу, разматывает грязные, дурно пахнущие тряпки со смуглой ноги. Посыльный брезгливо машет рукой и оставляет «басмача» в покое. И вот этот угрюмый человек говорит о чем-то с Кушаковой. Я увидел, как казах поставил больную ногу на табурет, стал разбинтовывать ее, скаля от боли белые зубы и бормоча что-то. Кушакова тем временем принесла ковш горячей воды с плиты, таз, стала промывать ступню «басмача». В руках ее появилась белая тряпка, наверно принесенная из дому; она умело и быстро забинтовала ногу.
Когда я подошел к ним, казах уже прилег на постель, смотрел на женщину полными благодарности глазами.
— Мужик — он и есть мужик, — снисходительно говорила Кушакова. — Пусть он русский или казах — все одно. Этот чудила указала на больного, — приморозил большой палец. Загнивание. Недалеко и до гангрены. Промыла марганцовкой. Я своих ребят всегда марганцовкой лечу. Поправится. А то ведь и без ноги можно остаться. Ты понимаешь, Рашид? — обратилась она к казаху. Тот согласно закивал головой, говоря что-то по-казахски.
Поправляйся, на работу выходи. Сидеть будешь — пропадешь. Не от болезни, от тоски пропадешь, — сказала на прощание своему пациенту Кушакова и покинула казарму. А мы с Кондратенко задержались. Люди так разговорились, что не могли остановиться. Беседа, словно костер от новых хворостинок, не затухала, огонь новой темы вспыхивал снова, затейливо змеился, возобновляемый все новыми фразами. Тут я заметил одну из кроватей пустой, аккуратно прибранной. На сером одеяле лежала гитара с поцарапанной декой и голубым бантом на грифе. На стене над кроватью — фотографии молодого человека в обрамлении еловых лапок.
— А чья это постель? — спросил я.
— Теперь уже можно сказать — ничья… — отозвался Иванюшкин.
— Погиб один наш… Петя Воротников, — уточнил Лымырь, блеснув зубами в печальной улыбке. — Да вы наверно знаете… Убил его Омелин, осенью прошлой…
И вспомнил эту трагическую историю.
Редко, но возвращались «по чистой» солдаты с фронта. Их окружали сочувствием и уважением — защитники, кровь прошивни за свою землю, за народ свой. И не кичились фронтовики своими ранами, увечьями, не рассказывали о своих героических подвигах, вели себя скромно. И это объединяло их, придавало их облику основательность и мудрую сдержанность, и.в да особо ценимую в народе, как известно, презирающего пустобрехов и хвастунов.
Вот таким хвастуном был Акакий Омелин, мастер ОТК. Он был призван в действующую армию в конце сорок третьего года, до того времени состоя на «броне». На фронт побыл недолго. Попал по ранению в госпиталь, а потом и домой прибыл к жене. Оставался все таким же плотным, цветущим мужиком. Он сильно обижался, когда ему говорили, что он и на фронте не был совсем. В таких случаях он закатывал штанину и показывал на икре багровый шрам. «Вот! — кричал Омелин. — В атаку ходил. За Родину, за Сталина! Пулей вдарило. Тебя бы туда, мать твою не туда!». Он постоянно требовал для себя каких-нибудь привилегий, уступок, послаблений. Задумав вырвать себе еще пару соседних комнат в бараке, он потребовал, чтобы переселили Нюру Кушакову в другой барак, а ее жилье предоставили ему. Он не желал слушать, что Кушакова — солдатка. А когда ему категорически отказали, то Омелин пришел однажды в кабинет Никандрова, вынул веревку из кармана и стал ее привязывать к трубе отопления.
— Ты — что, очумел! — закричал Никандров, побелев.
— Не видишь? Вешаться пришел. Пусть все знают, как на нашем заводе к защитникам Родины относятся, как изгаляются над ними! — нарочно кричал Омелин, чтобы было подальше слышно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу