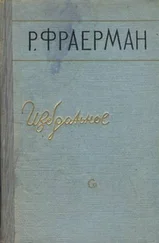И опять вспомнила глаза Семина: правдивые, строгие и уверенные. Как будто он знал что-то такое, чего не знала Надя, и это давало уверенность его словам и поступкам. Вот и у Кузнецова в его синих детских глазах та же уверенность, твердость и спокойствие. Ах да... Они большевики!
И сейчас же Надя представила Ромашова, его хитрые, бегающие глаза. Злой вспыхивающий огонек, который он моментально тушил, как только обращался к Семину, и заискивающий, угодливый тон.
«Неужели и я такая же?» — подумала Надя. Нет. Она не хитрит. Она не заискивает. Но откуда это чувство? Противное чувство неуверенности, робости, страха перед жизнью.
Не это ли роднит ее с Ромашовым, делает похожей на него? А может быть, она неправа? Может быть, внешний вид Ромашова так подействовал на нее? Нет. Кузнецов тоже одет плохо, но в нем все естественно. А этот точно нарочно откуда-то вытащил свой засаленный костюм, как будто этим хочет расположить всех в свою пользу, показаться пролетарием.
«Что же, однако, делать? Или в самом деле я неправа и избалованна? Ведь, кажется, так просто: какое мне дело, что Ромашов хитрит? А я не буду хитрить. Я буду учительствовать. Теперь не он начальник, а педагогический совет. А жить в уезде проще».
Так говорила Наде ее трезвость. А сердце — сердце говорило другое.
«Зачем ты хитришь, кого обманываешь? Ты боишься жизни. Ты ехала на простор, искала ветра и свободы, а чуть занепогодило, уже испугалась. Остаться надо здесь, с людьми, которые тебе по душе, которые тебе сразу внушили уважение. Ну и пусть трудно, зато ты не будешь одна».
И опять искушала трезвость: «А вдруг одна, опять одна? Какое им дело до меня! У них свои заботы. Сейчас выступили чехи. Мало ли что еще случится! Город готовится к эвакуации. Все уедут и меня бросят. А в уезде проще, там и люди проще. Ах! Посоветоваться бы с Кузнецовым!»
Так в сомнениях она подошла к дому. Время было обеденное. Но хлеба не было ни крошки, и опять представила себе Надя, как много хлеба и меда в Людоговке, и опять не могла решить, как же ей правильнее поступить.
В пасмурный, неприветливый день уезжала Надя с Ромашовым в Людоговку. Ветер гнал рыжие клочья сорванных объявлений, поднимал пыль и шелуху от семечек. Извозчичья кляча трусила словно на похоронах. Да и впрямь это были похороны — конец всей прежней Надиной жизни. Брезгливо отодвигалась Надя от Ромашова, который со своей приторной любезностью был особенно ей противен.
Долго тащились до пристани.
Пароход уже стоял у причала и дымился. Невзрачный, грязный и старый. Люди с узлами на спинах взбирались по сходням. Помощник капитана в засаленной тужурке и мятой шапчонке проверял билеты и с ненавистью осматривал пассажиров. Каждый старался выглядеть пролетарием — погрязнее и незаметнее. И только Надя в зеленом пальто и белой шляпе с зеленой бархоткой выделялась из этой толпы. Это было так не ко времени! И она старалась поскорее пробраться в свою каюту. Однако ехать пришлось в общей грязной каюте второго класса. Мягкие оборванные диваны, из которых торчала пыльная мочалка, завалены были узлами и кошелками. Пахло воблой.
«Вот она, «жизнь на Таити», — с горькой усмешкой подумала Надя. И мир, такой прежде манящий, постепенно утрачивал для Нади свое очарование.
Пришел Ромашов. Его бегающие глаза были невыносимы. Надя ушла на корму. Серые тусклые волны показались ей тоже отвратительными. Несколько чаек летело за кормой. Кто-то бросал им хлебные крошки. Все это было чужое, ненужное и такое тоскливое... Надя опять вернулась в кают-компанию. Чтобы не разговаривать с Ромашовым, прислонилась головой к портпледу и закрыла глаза.
Темной ночью пароход уныло загудел и остановился у крошечной пристани. Засуетились люди и при свете фонаря, толкая друг друга, стали выходить на берег.
Городишко расположился на крутом глинистом берегу Волги. Ветхая лестница с гнилыми скрипящими ступеньками, бесконечная и отвесная, лезла вверх, словно в ад. С тупым оцепенением взбиралась по ней Надя.
Долго шли по темной улице.
Заспанная, испуганная толстая девка открыла парадный вход в семинарию, держа во рту огарок зажженной свечи. Ручьем лил на пол растопленный стеарин.
Ромашов показал Наде ее комнату. Там стоял только диван. Не раздеваясь, Надя прилегла на него, затушив небольшую лампу на подоконнике, и заснула. Но через несколько минут вскочила: несметное количество клопов лезло на нее из дивана, падало с потолка, ползло по крашеному полу.
Читать дальше