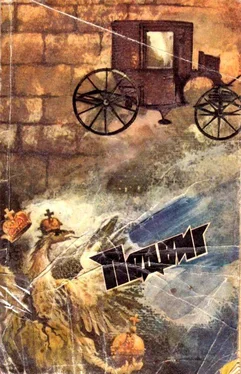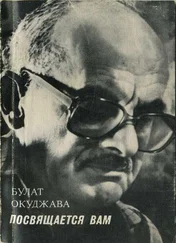— Когда можно?
— Сегодня. Я условился.
— Вот спасибо. Спасибо, что меня не забыли.
— Как забыть? — улыбнулся Михайлов. — Хоть ты и сухопутная, а все военная косточка, кавалерист-девица… Что с тобою?
«Военная косточка». Мне душно стало, как в ту ночь, в Мошковом, у Платона. А Михайлов, испуганный, недоумевающий, подал мне стакан воды. Я отвела его участливую руку…
Он прочел это письмо. Прочел, перечитал. Потом захватил бороду в кулак и так, словно у него ноют зубы, принялся молча ходить по комнате.
— Слушай, — волнуясь, сказал он, садясь рядом и беря меня за руки, — слушай, Анна… Ты представь: вдруг бы мне открылась возможность попасть в Третье отделение?.. Да, нет, нет, господи ты боже мой, не так, как обычно… Служить! Представляешь, на службу! Ну, там каким-нибудь чиновником. А? Понимаешь?
Я в ту пору ничего не знала о Клеточникове, канцеляристе Третьего отделения, нашем ревностном ангеле-хранителе. Ничего я не знала, а Михайлов не мог, разумеется, открыть то, что ведали лишь в Исполнительном комитете, да и то не все.
— И ты б не задумываясь?
— Еще бы! — воскликнул Михайлов. — Да ни минуты бы!
— И я бы, Александр Дмитрич, тоже.
— Ну вот! Вот видишь…
— Уволь, не вижу.
Он осекся; он все понял.
Э, нет, подумала я, нет, ты не молчи, ты сейчас вот и признай грубость, жестокость этого проекта обратить меня в домашнего соглядатая, в домашнего перлюстратора. Мне, Анне Ардашевой, следить за Платоном Ардашевым?! Называй двойственностью, называй чрезмерным индивидуализмом, эгоизмом, а не хочу, не желаю, не буду.
И как топором замахнулась.
— Послушай, мы были в Киеве, у твоих Безменовых. Как бы ты поступил, если б тебе предложили за Клеопатрой Дмитриевной подсматривать?
Я знала наперед: ему не защититься. Он только что говорил: «Надо все на себя взять». Но все ли? И я опять как топор занесла:
— У ишутинцев, в шестидесятых годах, у них в организации, я слыхала, был некто из очень состоятельных наследников. Так этот самый некто хотел отца своего отравить и, получив наследство, отдать деньги революционерам.
— Аналогии… — пробормотал Михайлов. — Аналогии не доказательство…
— У меня хоть аналогии, — сказал я, — а с этим примером, насчет Третьего отделения, и аналогии нет.
— Но скажи… Но позволь спросить: важно ли, нужно ли нам, для всех нас, для твоих и моих товарищей, нужно ль проникнуть в тайны Лиги, в тайны лигистов?
— Согласна, нужно и важно.
— Отлично. Кто может, кроме тебя?
— Понимаю.
— И вот… Ты не желаешь?
— Мерзко.
Я никогда не видела его таким беспомощным. Он опять забрал бороду в кулак, точно зубы ныли, и опять принялся молча ходить.
Потом тронул мое плечо.
— Мне студент вспомнился, — сказал он мягко. — А тот, которого ты хотела разыскать. Меня-то еще просила навести справки…
Я сообразила, о чем он: про того студента, который взялся вывозить нечистоты; это еще на театре военных действий было, я писала в первой своей тетради.
— Да, — сказал я, — вот это и впрямь аналогия. И все же…
— Но ты сочла возможным и прочесть и переписать. — Он взглядом указал на лист бумаги, лежавший на столе.
— Безотчетное движение, Александр Дмитрич.
— А я полагаю, очень даже «отчетное». И благородное, не о себе думала.
— Пусть, — сказала я, — но где ответ? Как бы ты поступил? Я про Кленю, сестру твою…
Стоя, опершись обеими руками на стол, он склонил голову.
— Да, нелегко б пришлось, чего там. Вилять не буду: мерзко и тяжко. Но как не вывезти нечистоты, если эпидемия грозит?
Я не сдавалась. Он снова взял со стола бумагу, снова пробежал глазами. Прочел вслух:
— «Четверть наших агентов находится среди революционеров». — И будто у себя спросил: — Это сколько?
— Врет, — сказала я, — какие там полсотни…
— А если вдесятеро меньше, тебе спокойнее? А если и один?
Я молчала. Потом вспыхнула: условна мораль или безусловна? Нынче поступился, а завтра: «Отца отравлю!»
Михайлов трудно вздохнул.
— Видишь ли… Позиция у меня действительно шаткая. Я ведь не Филарет Дроздов.
— Кто-кто?
— А это еще при Николае, митрополит московский.
— Ну?
— Филарет «Катехизис» составил. Пятую заповедь «расширил», а шестую «сузил».
— То есть?
— Где чти отца и матерь, прибавил «и власть», а из шестой, где «не убий», изъял войну и смертную казнь. Я не Филарет, у меня язык не повернется…
— А если у меня «повернется»? Одобришь? С радостью одобришь?
— Без радости, Анна.
Читать дальше