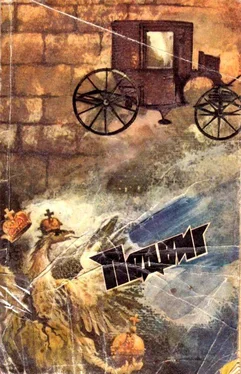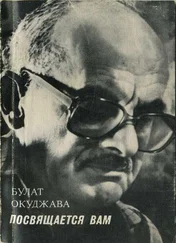Михайлов был благодушно настроен: «Теории, теории… Есть еще и логика фактов, то есть сама жизнь, Владимир Рафаилыч».
Вижу — и Желябов с Перовской, и Аннушка моя, — вижу, все готовы вступиться за Александра Дмитрича: «Вы его не знаете!», «Вы Дворника не знаете!»
«Дворник»… Я, кажется, ни разу не называл его Дворником? Не нравится, не любил и не люблю. Что это еще за Дворник? Ничего в нем дворницкого не замечал… А какой резон был окрестить Александра Дмитрича — Дворник? Мне Анна Илларионна потом объясняла: особая роль в организации — неусыпное рвение к чистоте и порядку. И как бы наблюдатель за всеми «жильцами». Чтоб, значит, держались в рамках тайного, конспиративного благочиния. Понимаю, но не принимаю. Грубо. Да и к тому, именно «дворниками» министр Валуев изволил бранить нашу редакцию, сотрудников «Голоса» — «эти дворники-грамотеи».
«Нет, — отвечаю, — с Александром Дмитричем я хорошо знаком, так что имею понятие о том, что такое „родовспомогательная“ доктрина. (Это я разумел террорную.) Но, положим, дитя родилось. Положим, созвано Учредительное собрание. А дальше? Впрочем, — говорю, — я ж в свое время знавал Петра Лаврыча…»
Все удивились: где? Когда? Неужто Лаврова знавали? Автора «Исторических писем»? Издателя «Вперед»? А мне и лестно это удивление, и немножечко грустно. Эх, думаю, какой же я для них, молодых-то, старикашечка! Ведь Лавров эмигрировал, когда все они были совсем зелеными.
«Да-с, — говорю, — имел удовольствие. Давно, лет двадцать тому. Во-первых, в Шахматном клубе встречались, в доме Елисеева, на Мойке. Публика? Да как вам сказать, в одно слово не уместишь… И Валуев, вот только что недобром помянул, бо-ольшой англоман, вития. И хитрый лис Комовский, еще пушкинской поры лицеист, тогда, дай бог памяти, кем-то по ведомству императрицы Марии. И ученый генерал Михайловский-Данилевский, историк… И, представьте, Чернышевский захаживал… И вот, стало быть, Лавров, будущий знаменитый автор знаменитых „Исторических писем“. Внушительная фигура, глаза серо-голубые, выпуклые, не то удивленные, не то близорукие. Руки красивые, на мизинце — рубиновый перстень.
Играть с ним было трудно. Куда мне, щелкоперу? Ведь Петр Лаврыч, он для вас философ, политический писатель, а ведь к тому и великий дока в чистой математике. Остроградскому не уступал. Потягайся с таким. Память — феномен, логика — таран!
Сядет, уставится на фигуры и ну своим мизинцем-то с перстнем рыжие усы пушить. Усы неровные, нехоленые. Пушит, „Лавриноха“, пушит, „рыжая собака“, — эдак его юнкера честили: он читал им математику, боялись его юнкерки… Пушит, пушит, да и распушит тебя, не поспеешь оглянуться. И рассмеется сочным смехом, широко рассмеется: дескать, уж не обессудьте…
Клуб Шахматный закрыли — не терпят, чтоб люди сходились приватно, даже и благонамеренные: ой-ой, общественное мнение проклюнется! А впрочем, и не вполне благонамеренных хватало. Сентенцию нашему клубу такую вынесли: „В нем происходили и из него исходили неосновательные суждения“. В том самом, шестьдесят втором, позакрывали все воскресные школы и читальни; вон уж когда упования наши получили громкий щелчок по носу…
Но мы-то с Петром Лаврычем встречались не только в доме Елисеева. Я помогал Краевскому издавать „Энциклопедический словарь“, помощником редактора был, а Лавров, он у нас вел философский отдел. Тем и обратил на себя внимание „голубых“: „наиопаснейший революционер“! У меня письма его хранятся. Так, ничего особенного, деловые, а все ж — „наиопаснейшего“. И книги он у меня брал. (Как позднее, много позднее Александр Дмитрич, я говорил.)».
Отрадно, когда слушают тебя не из почтения к сединам. Еще отраднее, когда для младых ушей минувшее не тлен и прах. Не секрет: юнцы подчас небрежничают прошлым. Поверьте, это не стариковская воркотня. Кажись, не лукавая мудрость: без вчерашнего нет нынешнего, как без нынешнего нет завтрашнего. Истина простая, да не всякому вдомек… Молодости многое простительно? Согласен. Только не высокомерие к прошлому. Каждый имеет право на глупость, но зачем злоупотреблять этим правом?..
Да, вспомнился мне Петр Лаврыч. И тут-то, признаться, неожиданно для меня и возгорелся разговор об идеале. Не то чтобы мои молодые люди молились на Лаврова, суть в том, что выдалась минута, общее и согласное движение в душах — и полет мечты. На больших крыльях полет. Вдохновение истинное. Это уж когда «слезами обольюсь»… И понимаете ли, даже я, старый воробей, был захвачен и покорен. Потом, в другие дни, у своей вечерней лампы, в одиночестве, потом словно бы и огляделся с «холодным вниманьем», но тогда… Ах, эти дальние, медленные тучи, простор и синее с голубым. И эти вдохновенные, славные, молодые лица… И какая громадная картина возникала — во всю ширь, дух захватывало…
Читать дальше