Прощаясь, Иван сказал, что торопится по важному делу, но просит непременно прийти завтра и рассказать «всем нашим» о суде, Мышкине, Феликсе и прочем. «Вы здесь первая ласточка. Все будут ждать с громадным нетерпением». Дал адрес сестер Виттен: дом на Садовой, третий этаж. С обеими сестрами, Еленой и Верой, Андрей был знаком, обе домашние учительницы, а Елена имела в Одессе лет шесть назад даже особую школу: наглядного обучения. Но теперь Елены, кажется, не было в городе, она работала сестрой милосердия в каком-то военном лазарете. Иван сказал, что хозяйка квартиры сейчас Вера, но «из наших» будет человек семь, среди них Коля Виташевский, которого Андрей должен помнить, один бывший юнкер, поляк, лишь месяц назад бежавший из херсонской тюрьмы, еще кое-кто.
Договорились, что Андрей придет завтра пораньше, часов в пять, чтобы сделать полный отчет о процессе. Расстались на улице, Андрей пошел к дому, на Гулевую, Ковальский зашлепал на Старопортофранковскую — башмаки его были стоптаны немыслимо, каблуков не осталось, Иван не поднимал ног, а как-то вез их по земле. Бедный Диоген! Не знал, что последний раз идет по одесскому солнышку, дышит морем, запахом известковой пыли… Зачем-то Андрей сообщил Ольге, что собирается навестить Веру Виттен. Ольга и Виттенши, как называли сестер Виттен, были знакомы, встречались у общих друзей. Ольга и Вера, обе музыкантши, обычно играли на этих встречах — у Семенюты, старого приятеля по городищенским временам — на фортепьяно, в четыре руки. С неожиданной холодностью Ольга сказала, что с Виттеншами давно не виделась и не испытывает желания видеться. Что же произошло? Ничего особенного, кроме того, что обе с ума посходили со своим Ковальским, шутом гороховым, какие-то у них вечера, диспуты, радения, бог с ними совсем. Они и с Семенютой раззнакомились. Со всеми порядочными людьми. Ну, и господь им судья, прекрасно, подальше от них.
При более подробном расспросе узналось, что осенью Вера Виттен встретила Ольгу на улице, расспрашивала про Андрея и очень удивилась тому, что Ольга не собирается ехать в Петербург и добиваться свиданья. «После этого она меня запрезирала. И на улице перестала кланяться. Такая дура! Во-первых, я не могла бросить ребенка, во-вторых, отец не дал бы денег на дорогу. А в-третьих, какое ее собачье дело и что она знает о наших отношениях? — Ольга рассказывала в большом волнении, лицо делалось злым, губы бледнели, собирались сухим пучком. Когда злилась, сразу вдруг старела, какие-то ямки появлялись на щеках, смотреть было неприятно. — И с видом этакого превосходства: „Да, я вижу, вы не Волконская. И даже не Волховская…“»
Очень не хотелось Ольге, чтобы он шел к Виттенам. Она говорила, что это опасно, что нужно проявлять осторожность — хотя бы в первые дни. Он терпеливо объяснял, что пойти совершенно необходимо. Его ждут люди, которым нужно знать, что произошло с друзьями. Он передаст приветы. Расскажет, как они выглядели. Неизвестно, вернутся ли они оттуда, из каторжных централов, из Сибири. Она не понимала. Нет, не понимала, и все. Еще раз убеждался в том, что непонимание не злостное, а глубоко натуральное, природное, победить которое нет возможности. Люди с этим рождаются и умирают. А другие люди рождаются с пониманием, и они-то, должно быть, и есть настоящие близкие люди. В ту ночь, когда он вернулся, рассказывал много часов подряд, она слушала с жадностью, со слезами на глазах, прерывая рассказ поцелуями и рыданьями, потому что страстно жалела его и всех его товарищей, а потом вдруг робко сказала: «Андрюша, но ведь Мышкин стрелял в казаков, правда же? Алешу Поповича тоже подозревают в убийстве? Но ведь есть закон и такие дела все-таки наказываются, правда же?» На эту ерунду он ответил: а ее собственный муж, который не убивал, не стрелял, за что просидел полгода в одиночке? Тогда она еще более робким и жалким голосом сказала: «Но ведь тебя оправдали же!»
Вот это и было то самое: которое победить нельзя.
Разговор насчет Виттен произошел уже после ужина у родственников и отказа ехать в Швейцарию. Он понял, что никакие разъяснения не нужны. Непонимание делало свое дело: все шло к концу. Он сказал, что узнал о пароходе: третьего февраля отходит «Трувор». Он поедет к старикам, в Крым.
Рано утром прибежал малознакомый студент, по поручению Дебогория, со страшной вестью: накануне, 30 января, поздно вечером — то есть через несколько часов после обеда в «Белой харчевне» — Иван Ковальский и члены его кружка арестованы на квартире Виттен, на Садовой. Ковальский сдержал слово: оказал вооруженное сопротивление. Кажется, убил жандарма. Другие тоже стреляли.
Читать дальше
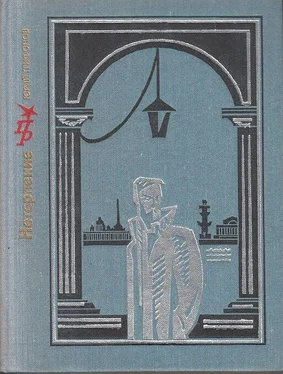

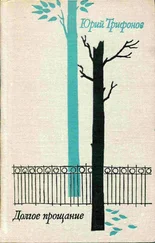


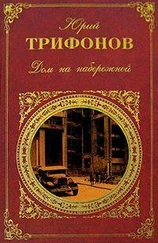
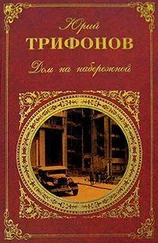
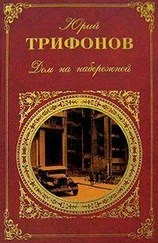




![Юрий Трифонов - Бесконечные игры [киноповесть]](/books/422559/yurij-trifonov-beskonechnye-igry-kinopovest-thumb.webp)