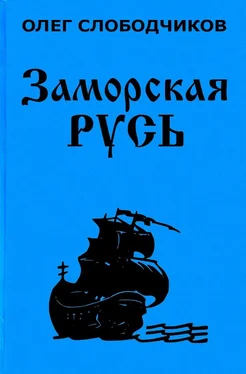Компанейский обоз затемно двинулся через ямскую слободу на Обской зимник. По весенним застругам скрипели полозья саней, тренькали бубенцы, пыхали паром конские морды. До восхода было холодно. Васька уже сидел в санях под медвежьей дохой и грел дружку место. В последний раз Сысой расцеловал отца и мать, впервые от всей души — свою невозлюбленную жену. Все пристойно, как принято от века. Сжать бы зубы, потерпеть еще немного, но на востоке заалело и из морозной хмари стало подниматься по-весеннему яркое солнце. Первый луч упал на золоченый крест приходской церкви. Он засиял, засветился, блистая багрянцем.
— Э-э-эх! — Сысой с плясом прошелся по дороге, до ждущих саней. — На волю вольную, на землицу обетованную!..
Вскочил на передок, оттеснив знакомого ямщика, выхватил у него из рукавиц кнут, щелкнул по заледеневшему мартовскому снегу. Сорвались и понеслись испуганные кони. Хохоча, он обернулся. Поддерживая друг друга, стояли мать с отцом, за ними толпился весь дом. На миг кольнула сердце жалость. Жена с растерянным видом шагнула следом за обозом, вытягивая руки, будто только сейчас поняла случившееся. Но всходило солнце. Кнут описал дугу над санями, еще раз врезался в накатанную наледь позади возка, начисто отрезая былую жизнь. Ямщик выругался, забрал его и толкнул непутевого земляка к товарищу.
Судьбой завязанная, небом отпущенная, начиналась жизнь крестьянского сына Сысоя Слободчикова по страстному желанию его.
В своей прежней жизни Прошка Егоров не видел мест угрюмей Чугацкого залива: нависшие над водой черные скалы, мертвецки серые языки льдов торчащих из падей, в шевелящемся тумане горные вершины и без конца моросящий дождь. Не так представлялась ему Аляска, Терентию Лукину — воля, а Ульяне — жизнь при больших деньгах. Константиновская крепость на острове Нучек, куда они попали на компанейские промыслы, была самым отвратным местом в этом туманном заливе: вроде чирья среди болот. Скрывая солнце, здесь по полгода дождило дырявое небо. Временами налетал ветер с севера, разгонял тучи и так сковывал промозглую землю, что ни человек, ни зверь не могли держаться на скользких склонах сопок.
Здесь не было разговоров о воле — иди куда знаешь, держать тебя некому, некому спрашивать паспорт. Только народы вокруг дикие, злые, вороватые, со слабого не то, что исподнюю одежду — кожу сдерут для потехи.
Прохор стоял в карауле и, чтобы не уснуть, всю ночь бесшумно, крадучись ходил по настилу крепостной стены, осторожно высматривал, все, что мог разглядеть. По одну сторону две казармы, аманацкая и приказная избы, амбар, склады, теснота корабельная, жизнь осторожная, по другую — ров, палисад, в двадцати шагах от него кладбище: мертвые и те жались к стенам. В темноте слышно было, как накатывает на берег волна прилива.
Добирался сюда Прохор едва ли не целый год, того, что видел и пережил в пути, хватило бы на весь выпуск горной школы, которую он не закончил. С его щек пучками полезла курчавящаяся борода, которую здесь никто не заставлял сбривать, длинные волосы мешали и он их стриг на московский манер в скобку. За год скитаний Прохор окреп, вошел в мужскую силу, оставаясь жилистым и поджарым, как дед.
Чаще всего он пялился в сырую темень за стены, разглядывал кресты: среди них лазутчика заметить трудней, чем на ровном месте. Эх! Покурить бы, да боязно: не успеешь раздуть трут, как один из крестов окажется чугачем и пальнет картечью из добротной аглицкой пехотинки. Прохор еще раз бросил взгляд на восток без признаков рассвета, подхватил фузею и пошел к южной крепостной стене проведать барнаульского мещанина Ваську Котовщикова.
Они прибыли сюда одним обозом и кочем, который здесь называли пакетботом. Близко к караульному подходить не стал, увидел — не спит, живой, приглушенно свистнул. Васька обернулся, махнул рукой.
Не каждую ночь караул так осторожен. Умерла дочь чугацкого тойона, данная промышленным в заложницы, а виной всему два распутных брата, иркутские мещане из коноваловской партии, Васька и Алексашка Ивановы, которые взялись приучать диких к бане: дух, мол, от них тяжелый. Натопили ее среди недели, предложили аманатам-заложникам попариться, пообещав по чарке водки. Бань чугачи не любили, но за выпивку готовы были лезть в огонь: заперлись, пару поддают, вениками хлещут, визжат и крякают, выходят сухие, только чуть раскрасневшиеся. «Наливай, косяк!» — требуют, по местному обычаю называя всех русских промышленных казаками. Раздосадовано переглянувшись, братья чертыхнулись, но уговор не нарушили, налили обещанное. Те выпили, предложили за другую чарку попариться еще раз.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу