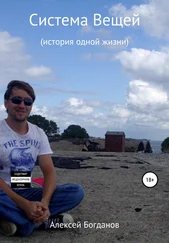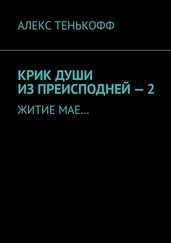Державин прошел шагов десять, опять остановился.
— Нет, Иван Иванович, я поеду на Пречистенку.
— Да приедет, сам приедет ваш Каразин. Теперь уж остается всего пять часов. Посидим у Пушкиных.
— Нет, не могу. На душе скребет. Не до гощенья. Что за удовольствие Пушкиным принимать такого? Навещу на обратном пути.
— Да, видно, никак мне с вами не сладить.
Они повернули обратно.
— Вот что, Гаврила Романович, — сказал Дмитриев. — Такой славный денек! Морозный, солнечный. Запряжем-ка лошадку и прокатимся по Москве. А?
— Проехаться по Москве?
— Да, проветриться. А то я все сижу за книгами, никуда не выезжаю. Пушкины, Николай Михайлович да Херасков — вот и все, к кому еще изредка заглядываю. Прокатимся, и вы уймете свое беспокойство.
— Пожалуй, и впрямь надобно уняться, чтоб не наброситься на Каразина с кулаками.
Они шли по переулку вдоль усадьбы Юсупова. Справа тянулась железная решетчатая изгородь его старого парка, глухого, заснеженного, с огромными черноствольными, но белыми липами, лохмато обындевевшими. Из открытых ворот сада вышла по хорошо протоптанной тропе пожилая женщина в линялой голубенькой шубе, в белом вязаном платке. За ней плелся весь укутанный (видны были только глазенки да носик) мальчик лет трех. Женщина, повстречавшись с Дмитриевым, поклонилась ему.
— Здравствуйте, батюшка.
— Здравствуйте, Арина Родионовна, здравствуйте, — поклонился и он ей.
(Знать бы ему, кем станет с годами укутанный мальчик, он придержал бы его и показал другу.)
Вернувшись в свой двор, Иван Иванович, не входя в дом, велел заложить лошадь. Конюх вывел белую кобылицу и запряг ее в санки, обшитые красным сукном. Дно их и сиденье он застлал ковриком. Хозяин усадил гостя и, взяв вожжи, поместился с ним рядом, и они выехали со двора.
— Куда желаете? — спросил Иван Иванович.
— Посмотреть бы знакомые места. Те, что знавал я в молодости, будучи солдатом. Бываю в Москве, подолгу живу здесь, а на них не попадаю. Другая служба — другие круги.
— Так куда же?
— Давайте сперва в Немецкую слободу.
— Хорошо, я в ту сторону и правлю. Сейчас свернем на Старую Басманную. Люблю ездить без кучера.
— Головинский дворец в слободе еще цел?
— Кажись, цел. Я давно там не бывал. Пожалуй, лет десять.
— Сидьмя сидите, друг мой. И ничего не пишете. Николай Михайлович справедливо упрекает. Закопались в книги и больше знать ничего не хотите. Вам ли вести такой образ жизни? На целых семнадцать лет моложе меня.
— Пойду, пожалуй, на службу. Теперь и служить будет отрадно. «Закрылся грозный, страшный зрак».
— А смотрите, Москва-то живет довольно бойко, — заметил Державин. — Обманулся я вчера вечером. Глядите, повозки так и шьют. Кибитки, пошевни и дровни с грузом. Только дворянских экипажей стало меньше.
— В Москве ныне купечество начинает двигать жизнь. Купцы да фабриканты со временем перетащат всех мужиков от помещиков.
— Да, дворянство совсем разнежилось в роскоши, расхлябалось в безделии. Нет на них Петра Первого! И на нас с тобой, барычей. Павел без толку грозил и карал, а благословенный Александр, сдается, в конец расшатает порядок. Помогут молодые дружки. Не вижу впереди ничего отрадного.
Они выехали на Разгуляй и свернули вправо, минуя огромный дом Мусина-Пушкина, владельца богатейшей рукописной библиотеки.
— Можно бы заехать к графу, но он тоже укатил в Петербург, — сказал Дмитриев. — Алексей Иванович показал бы свою новую находку — «Песнь о походе Игоря».
— Приеду из Калуги — навещу и графа, — сказал Державин. — Хочется посмотреть сию бесценную находку, подержать ее в руках. Алексей Иванович трясется, поди, над ней. Не каждому даст в руки. Как же, единственный экземпляр во всей России!
— Да, граф допускает к собранию древних рукописей только членов Исторического общества. Однако «Песнь о походе Игоря» поспешил уже опубликовать, чтобы поскорее познакомить россиян с сим поэтическим чудом древности.
— Старательно же порылся он в сокровищницах монастырей. Воспользовался должностью обер-прокурора Синода.
— Что ж, и спасибо ему.
— Нет, благодарить надобно монастыри. Именно они сохранили память о прошлом Руси. Они да устные сказания. Мирские учреждения ничего не сохранили. Господи, когда же мирские власти научатся истинно ценить творения человеческого духа?
— Но вы, Гаврила Романович, тоже служите мирской власти. Один из самых мощных ее столпов.
— Нет, милый Иван Иванович, теперь я начинаю понимать, что сила моя ничтожна.
Читать дальше