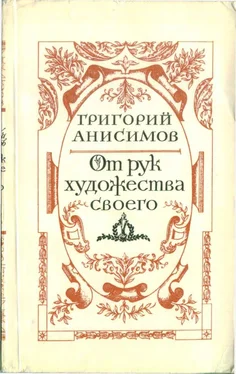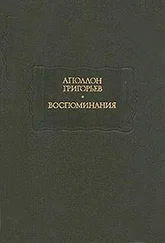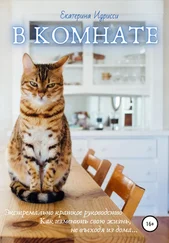Из них многие усвоили европейскую манеру, но с годами выработали и свой собственный, очень трогательный и простой почерк, открывая в художестве новое, дотоле никому не известное, дерзкое, свое.
Они были наделены редкой чуткостью не только к ремеслу, к цвету, но и ко всему окружавшему их. Эта отзывчивость впиталась в них как бы сама собой от икон и парсун. В художестве для них не было пророков, они соглашались с советами, предписаниями, но делали по-своему. Они писали мягко и любовно, сочно и резко. У них было и прирожденное, и вполне сознательное понятие об истине и лжи в художестве, о воле и любви. Среди них мало было кротких и тихих, а больше буйных, вспыльчивых, неуживчивых. Их художество начиналось и оканчивалось самоотверженьем, которое всегда согласуется с честью и достоинством человека.
Они вывернули льстивый парадный портрет с изнанки на лицо. От них требовали жеманной и кокетливой грации в портретах, вельможное дворянство хотело видеть себя величественным, красивым и умным. Портреты оплачивались наличными, но кисть этих художников оставалась неподкупной.
Они ломали и отбрасывали каноническую точность, не боясь обвинений в наивности и неумении. Они исправно молились, взывали к богу, но в ремесле хотели проникнуть в святая святых души и слушали только свою совесть. Они свершали то, что считали нужным. У них обо всем были свои понятия. Они были верны в дружбах и не раз спасали Матвеева всякой помощью. Глядя на труды своих сотоварищей, Андрей не раз думал, что искреннее и самобытное российское художество таит в себе разума и живости гораздо более того, чем это кажется на первый взгляд. Хотя давалось это нелегко, много было отреченья, мук и доблести.
Один писатель о художниках и сам художник Иван Урванов составил "Краткое руководство к познанию рисования и живописи исторического рода, основанное на умозрении и опытах". В нем говорится: "Что же касается до кисти художника, оная должна быть смела, легка и приятна, и чтобы из оной каждому можно было усмотреть, что живописец употребляет ее везде с разумом и намерением". И вот с таким-то разумом и намерением и Никитин, и Вишняков, и сам Матвеев, и вся его живописная команда трудились в поте лица.
"Академии мы проходили Флорентийские, Антверпенские, — думал Матвеев, — краска у нас ирис-грин да лазурь берлинская, а судьба-то русская, никуда от этого не уйдешь. В наших-то российских европиях начнешь писать облака или снега, так бери белила московские, или немецкие, или бьянка ди Венеция. А что утеплить нужно, добиться тельного цвета, так тут тебе бакан, киноварь, сурик, кармин. Хочешь фона да цветы списывать, празелень есть и ярь веницейская, черные тучи желаешь изобразить — бери кость слоновую и кельнские земли, в плафоны небеса делать из ультрамарина, и горной синей, и голубец хорош. Шпарь себе на доброе здоровье. А еще под рукой и умбра, и охры, индиго и шафран. Одни краски свет поглощают, другие отталкивают от себя. Холст от этого то темнеет, то ярче горит. Тени, светотени, тона, переходы, оттенки… Все дает живописи свободу и полет.
Вона я как "Автопортрет с женой" писал, так мазок стушевывал, краску жидко разводил на масляном лаке, а ныне гуще писать стал и уж такого тонкого ровного слоя не придерживаю. А все равно краска имеет мягкость и нежность, ежели её положить куда следует. Упаси бог промазать!" Андрей хмыкнул…
* * *
Он не упустил ничего из увиденного — ни бронзовой головы фавна итальянской работы, ни кресел, обитых гобеленами, ни большого серебряного, вызолоченного кувшина с двумя ручками и с изображением на шейке грубо исполненных портретов Петра Первого и Екатерины Первой. В покоях рядом над зеркалами по стенам между резьбою писаны были под натуру цветы, искусно исполненные Захаровым. Его руку Андрей узнал сразу. И хотя делалось это при нем, он смотрел так, будто видел впервые. "Мишка — бес, всю земную красу на стене намахал".
Войдя в следующие, отделанные золотом хоромы, прямо от дверей живописец увидел на стене большой рисунок Микеланджело в массивной раме. Это расстарался кто-то из русских послов. С рисунка выступала мадонна с прильнувшим к ней ребенком. Андрей обмер от напряженного звука в каждой линии, которые разбегались по всему ласту мягко и плавно. Он видел в рисунке удивительную святость и красоту. Он принимал в себя тепло сердца мастера, который как бы протягивал к Нему с рисунка руку и говорил: "Ну, здравствуй, Матвеев!"
Мадонна смотрела в сторону, устремив взгляд прямо в окно, за которым шумели молодые деревья. В ее ангельском лице была сама жизнь, поразительная в своем искушающем спокойствии. Весь ее облик был ласков и ясновидящ, он вырывался за пределы бренного бытия и парил по залу, не прикасаясь ни к стенам, ни к потолку.
Читать дальше