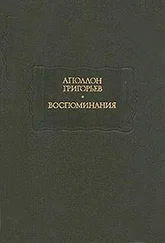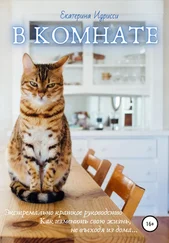Но разбойный вертеп все же больно задел и русское художество. Князь Иван Долгорукий обратил как-то нетрезвый взор на Марию Маменс, жену персонных дел мастера и гоф-малера Ивана Никитина. Стали шептаться об этом при дворе, там тайн нет никаких, все и всё знают обо всех. Дошло и до Никитина. Да еще прибавили к известию этому, что ждет Мария ребенка от князя Ивана. С тех пор, говорят, и стал Никитин угрюм, нелюдим, работал мало, а все больше читал "Жития святых" и "Молитвослов". Верил живописец, что правого и неправого рассудит бог по своей правде, но когда? Кто ж знает?
…Если б дольше пожил Иван Никитич, то узнал бы, что Левенвольде, до которого ему дела не было, сослан в Соликамск, где и почил, а Иван Долгорукий совсем плохо кончил при Бироне — колесовали князя на Скудельничьем поле, в версте от Новгорода.
Глава четвертая
Варфоломей Растрелли
 ывший флорентинец, а ныне русский итальянского происхождения, высокий и грузный, шел он по Невской першпективе как хозяин, думал что-то свое, сводил что-то в уме и раскидывал, а ухом подслушивал, как шелестит и потрескивает ледок под мостками через Фонтан-реку.
ывший флорентинец, а ныне русский итальянского происхождения, высокий и грузный, шел он по Невской першпективе как хозяин, думал что-то свое, сводил что-то в уме и раскидывал, а ухом подслушивал, как шелестит и потрескивает ледок под мостками через Фонтан-реку.
Живописный мастер Андрей Матвеев любил этого человека и, когда его звали с ним работать, являлся сразу же. В растреллиевских дворцах он охотно писал плафоны, расписывал триумфальные ворота, украшал новый Зимний дом, тоже построенный Варфоломеем Варфоломеевичем.
Откуда — и понять нельзя, — но была в этом флорентинце-графе крутая мужицкая закваска. Работал как бешеный. Русскими ветрами его пообдуло, и ко всему он привык. Но как увидит, бывало, граф нерадивость, кось да перекось российскую, как попадет ему на постройке человечишко, что стоит и почесывает то затылок, а то и где пониже, так и вскипит граф и уже совсем по-нашенски заорет: "Ах ты лентяй, огузок собачий!" — да и прибавит еще пару словечек, таких, что каждый россиянин чтит и понимает сразу же. На него не обижались, знали, что зря позорить не станет, что не со зла это. Другой бы и унизил, и поучил собственноручно, да еще б добился у начальства, чтоб вложили нерадивому ума туда, куда следует. Растрелли только огорчался, даже заболевал частенько, когда постройка не ладилась. Вздыхал и жаловался, что в России его служба изрядно тяжела. А строил все равно быстро. Упорен был и добросердечен. А ругань-то — она что? Она на вороте не виснет…
Граф жил в России давно, обрусел порядком, говорил без акцента. И пил порой граф тоже, как самый серый русский мужик. Это у него называлось "вырваться на волю", Тогда обширность Петербурга становилась ему тесна, он брал тройку и летел мимо сосен и берез, над верстами и ночами, над зарослями и прибрежными кустами, по косогорам и лугам, по долам и по горам и оказывался под конец почти под Москвой.
Проезжал он Владимир с его вишневыми садами, лебяжьими церквами, мчал большой излучиной Клязьмы-реки и, еще не вполне пьяный, а только подгулявший, останавливался где-нибудь в Торжке на постоялом дворе. И тут как из-под земли появлялись грудастые блудные девки. Слухи о том, что столичный граф приехал и гуляет, разносились сразу, и девки спешили к нему. Нарядные, веселые, в румянах, пахнущие чисто выстиранным бельем и белым марсельским мылом. Ведь и чужеземные купцы, бывавшие здесь, тоже не скупились ради гульбищ и женской прелести на духи, пудру, сурьму и мыло.
Приезд столичного гостя, крепкого мужика с полным кошельком, был событием, явлением ангела женам-мироносицам. Граф терпеть не мог крохоборов, сам никогда не был таким, и потому веселье захватывало не только постоялый двор, но всю округу. Итальянцу было хорошо и просто. Он лапал своими огромными ручищами всех подряд, при каждом дотроге блажливые девки закатывали глаза и визжали не сильно, а так, как положено, — от этого у графа троилось и плыло в глазах, он переводил взгляд за окно и видел там русское небо, запрокинутое за тощие песчаные пастбища, черные избы, занесенные метелями, колодцы и кресты, и ему становилось еще лучше: там — нищета, грязь, слезы, хлеб с мякиной, калечь и голь, а здесь — тепло, хорошо, укромно. И ничто не запрещено. Дуй, Дунька, поддувай, Дунька! А она, пышная и багровая, дело свое знает, не первоучка, у нее груди по два фунта каждая, таких ни в Европе, ни на придворных балах не увидишь. Хоть тресни глаза. Шум, смех, кто-то на гитаре бренчит, полунагие девки-визгуньи с ногами-колоннами пляшут, они совсем обомлели от сладкого. Нежится Растрелли, легко и приятно здесь.
Читать дальше
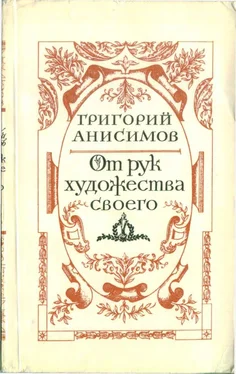
 ывший флорентинец, а ныне русский итальянского происхождения, высокий и грузный, шел он по Невской першпективе как хозяин, думал что-то свое, сводил что-то в уме и раскидывал, а ухом подслушивал, как шелестит и потрескивает ледок под мостками через Фонтан-реку.
ывший флорентинец, а ныне русский итальянского происхождения, высокий и грузный, шел он по Невской першпективе как хозяин, думал что-то свое, сводил что-то в уме и раскидывал, а ухом подслушивал, как шелестит и потрескивает ледок под мостками через Фонтан-реку.