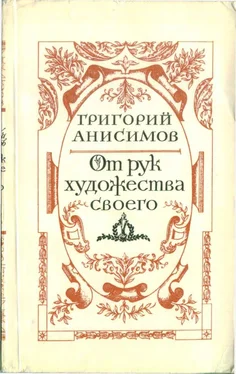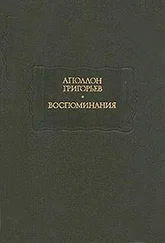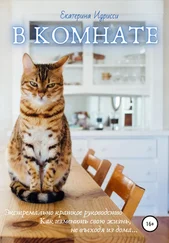Приезжая в Голландию, русские чувствовали себя поначалу скованно. Ничего общего с Россией здесь не было и быть не могло. Но голландцы были людьми простыми. И даже Петр в Амстердаме был как дома, хотя находился в окружении голландских купцов, мореплавателей, инженеров, фабрикантов, ученых и ремесленников.
Учитель Матвеева Карель де Моор был признанным, уважаемым мастером портрета. В молодости он дружил с Герардом Доу, хотя и осуждал его за то, что тот всегда искал успеха у богатых заказчиков. Бас [4] Бас — мастер (голландск .).
де Моор, как его с почтительностью называли все, ненавидел кукольную манерность, которой от него требовали бюргеры. Нужно было разрываться надвое. То, что он делал для себя, оставалось в его мастерской и, казалось, не имело будущего. Но если б он писал только так, как для себя, щедро оплачиваемые заказы уплывали бы из его рук к другим. И тогда б ему не хватало не то что на хлеб — на холст и краски. На заказ де Моор изображал модели скрупулезно. Он хотел в заказах остаться профессионалом, душевным художником, но поневоле становился сухим ремесленником. Рыночный спрос укорачивает, принижает художника. Покоришься — тебя забудут еще при жизни. Пойдешь наперекор — готовься к нищете и непризнанию.
От заказов перейти сразу к своему, к настоящей живописи, он не мог, хотя был опытен, обладал дьявольской хваткой. После заказов нужно было отмыться, забыть. Де Моор ждал, не работал, занимался с учениками. Он бесился и не находил себе места. Убеждал себя: "Я такой же продавец своего товара, как бондарь или пирожник". Старому художнику странно было чувствовать, что уже давно сданный заказ "не уходил из памяти, тяготил. Он поселялся в теле, словно некий порок, грыз нутро. Де Моор замыкался, уползал в свою скорлупу, отсиживался в сторонке.
Если в заказных картинах ему нужно было заглаживать, прятать свои чувства, то Матвеева он учил писать свободно, не упираясь в изображаемое лбом. Он говорил, что нужно найти здоровый цвет и сплавить его с рисунком, растворить предмет в живописной среде. Так, чтоб все можно было потрогать рукой и в то же время чтоб всего этого как бы и не было.
…Суровые тона картин голландцев обретали для Андрея сейчас новый характер. Он часто с удивлением думал об этих людях. Каждый из них умел оставаться самим собой. У каждого глубоко спрятанный внутри огонь. Их грубые, сильные сердца умели быть нежными. Матвеева постоянно влекло к тем, кто умел так страстно и правдиво изображать нищих и бродяг, страдания и муки простолюдинов, прелестных девушек, ждущих счастья.
"Это сама вечность", — как будто говорил кто-то Андрею, и он благодарно кивал головой, думая о многосильном и резком зрении этих добрых мастеров. Никто никогда так не писал и писать не будет… Андрея приводили в дома горожан, набитые картинами. У многих полотен Матвеев стоял как возле больших костров. Не выдерживая, выбегал на улицу с горящим лицом. Ему хотелось сгореть в этом пламени, но понять, как добиться такого же растворения цвета, который выходил изнутри, освещал все вокруг и уходил обратно в картину.
Голландская живопись была идеальна и полна жизни, она могла сбить с толку, поколебать любого художника, сотворить из него слабого подражателя, если в нем не было своего, устоявшегося. Она умаляла авторитеты и славы, способна была поработить зрение и забить его россыпью цветных осколков.
Хорошо сиделось тут, где было все привычно. Краски, холсты, кисти. Здесь было все, что помогало жить.
В мастерской Матвеев находил опору, он ссорился и мирился со стихиями, знавал минуты бессильной ярости и тоски, когда хотелось повеситься, и минуты пьянящей радости. Там, на людях, вовне, нужно хитрить, прикидываться, все рассчитывать, раскладывать, галантно раскланиваться с заведомо известными подлецами и сквернавцами. А здесь, в мастерской, ты сам себе и царь, и бог, и слуга, и господин. Здесь Матвеев ничему не изменил, ничего не предал. Тут все просто: что было начато, надобно было окончить, неудачное записать, удавшееся завершить. Придумать что-нибудь новое.
Вспоминались Андрею прежние разговоры. Давно это было, а будто вчера…
— Ты знаешь, кто помог сдвинуться с места всем нам? — спрашивал де Моор, и хитрые глазки его блестели из-под густых бровей. — Рембрандт, думаю я, — отвечал он сам себе. — Я это знаю, только он. Когда я в молодости увидел его картины, мне хотелось бросить живопись. Какая у него гармония, как взят красно-коричневый, черный! Он меня всего перепахал. И открыл глаза. Это он меня научил видеть, кто красильщик, а кто живописец.
Читать дальше