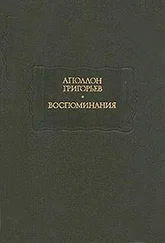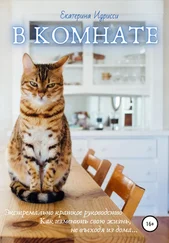А потому дела государственные все время укреплялись в том порядке, в котором они принимали все более "лучшее" свое положение.
Глава седьмая
Бедный, бедный Никитин
 рхитектор Растрелли увидел третью казарму казематов Петропавловской крепости. Здесь не было дневного света, никто не спал вволю и не наедался досыта. В бывшем Преображенском приказе, который стал называться Тайной канцелярией, ничего не делалось наспех. Весь персонал Канцелярии трудился с большим усердием. В полумраке с людьми проделывали такие штуки, что кровавая тень вставала над гигантской империей.
рхитектор Растрелли увидел третью казарму казематов Петропавловской крепости. Здесь не было дневного света, никто не спал вволю и не наедался досыта. В бывшем Преображенском приказе, который стал называться Тайной канцелярией, ничего не делалось наспех. Весь персонал Канцелярии трудился с большим усердием. В полумраке с людьми проделывали такие штуки, что кровавая тень вставала над гигантской империей.
И снова увидел Растрелли закованного в ножные и ручные железа первостатейного живописца Ивана Никитина. Он спал на сыром полу, босой, опухший от голода, с затекшим от побоев лицом…
…Бесформенная груда в черной рясе склонилась над лежащим. Массивный золотой крест на цепи раскачивался во тьме.
Вынырнула голова. В полутьме, словно мрамор на кладбище, засветились необъятные щеки. Из-за жирного плеча этой глыбы выступал сам хозяин Канцелярии — главный палач Российской империи Ушаков.
Глава синода Феофан Прокопович доволен. Он улыбается. Строптивый Никитин когда-то отказался писать иконостас. Кому отказал? Самому Феофану. Наглец. Насмелился на дерзость и высокомерие. Теперь, голубчик, ничего уже не напишешь. Ручки-то поломаны основательно. Ушаков знает, что делает. Феофан ничего из виду не упускает.
Забылся в тяжелом сне Иван Никитин, не видел Феофана. Лучшей натуры для того, чтобы оставить на холсте лик Зла, трудно было сыскать.
Стояли они рядом — Феофан и Ушаков. Были достойны друг друга. Выдающийся оратор и выдающийся заплечный мастер. Теоретик литературы и практик застенка. Два сапога пара… Олицетворенное воплощение уродливого родства преступления и закона.
Когда-то сын купца из Киева Елеазар Прокопович постригся в монахи и стал Феофаном, мужем весьма ученым. А Ушаков выбился в графы. Точней бы сказать, не графом он стал, а самым настоящим грифом. Ибо граф-дворянин по своей природе непременно должен быть благороден. А гриф — не должен, он питается падалью.
Родовое название этих хищных птиц — сип. Сип — ординарный, серый, с голой шеей. Мозг его большими знаньями не обременен. А вот Феофан Прокопович — совсем другое дело. Он один из самых образованных сипов своего времени.
Такими виделись они Ивану Никитичу Никитину в его мучительном сне. Он скрипел зубами от боли, потому что каждое неловкое движение пронзало все тело, словно в него вводили раскаленный щуп.
…И вдруг Никитин, будто возвращаясь из небытия, улыбнулся. С облегченьем вздохнул. "Наконец-то! Наконец-то я нашел решение. Задача, которая мучила меня гораздо более страшной карой, чем мог бы придумать искушенный начальник Тайной канцелярии, поддалась. Будь что будет, но остаток своей искалеченной, недорогой теперь жизни я продам им за настоящую цену! За все надо платить. И вы мне заплатите полной мерой.
Ну, вражья утроба, сиятельнейший палач господин Ушаков, неужто не клюнешь на мою приманку? Быть не может. Ведь каждому известно, что идея величия греет низкие души больше, чем возвышенные. Это так. Предположим, что он мое предложение отвергает… Значит, они взяли надо мной верх. Изломали всего, отбили нутро, помутили разум. И разлучили навек мои руки с художеством… Почти что отняли жизнь, отбросили от живописи… Но я еще живой, живой. Бог еще не лишил меня… Живопись — живое письмо о живом, я свое последнее письмо еще не послал…"
— Ежели на то милость ваша будет, то покорнейше прошу об одном, — сказал на очередном допросе Иван Никитин генералу Ушакову, — велите дать мне, ваше высокое державство, холста, кистей, красок и подрамник, а я в самом добром художестве, как во времена Петра Великого, блаженной и вечнодостойной памяти императора, вашу персону намалюю.
Тучный Ушаков ушам своим не поверил. Остолбенел от неожиданного предложенья.
Его обычно желтое лицо с красными старческими прожилками побагровело. Он подумал, что, видимо, Никитин, который до сих пор ни о чем не просил даже из-под пыток, слегка рехнулся. Пытливо, безотрывно и долго разглядывая живописца-колодника, Ушаков отмел свое предположение.
Теперь взгляд у Никитина был иным: ясным, твердым, непреклонным. Это был взгляд вызова и последнего отчаяния.
Читать дальше
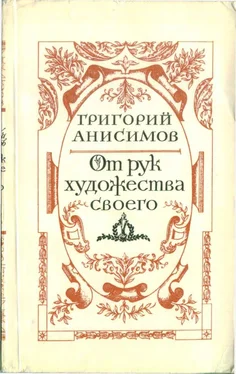
 рхитектор Растрелли увидел третью казарму казематов Петропавловской крепости. Здесь не было дневного света, никто не спал вволю и не наедался досыта. В бывшем Преображенском приказе, который стал называться Тайной канцелярией, ничего не делалось наспех. Весь персонал Канцелярии трудился с большим усердием. В полумраке с людьми проделывали такие штуки, что кровавая тень вставала над гигантской империей.
рхитектор Растрелли увидел третью казарму казематов Петропавловской крепости. Здесь не было дневного света, никто не спал вволю и не наедался досыта. В бывшем Преображенском приказе, который стал называться Тайной канцелярией, ничего не делалось наспех. Весь персонал Канцелярии трудился с большим усердием. В полумраке с людьми проделывали такие штуки, что кровавая тень вставала над гигантской империей.