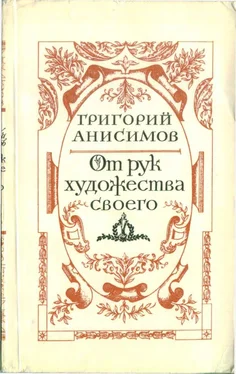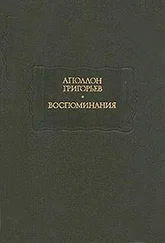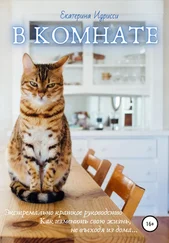Растрелли искал формы, пропорции, совершенство, истинную линию в своей душе. А государь все, что ему было потребно, искал и находил вовне. Скульптор на ощупь брал красоту там, где верховный творец прекрасного запечатлел ее. Петр хотел осветить густой мрак при помощи знаний и наук. Действия души мало его занимали. Правда, до поры до времени, до тех пор, пока он не столкнулся с самыми злыми и низкими намерениями сына. Вот тут-то он и замер, приостановился, стал оглядываться назад, почти окаменел. И может, впервые задумался — да еще как горько — о душе, о себе, кто он и что такое.
Теперь он сидел и, похоже было, бился над каким-то неразрешимым вопросом. Что такое есть он — государь и монарх? Столп державы или кратковременный призрак? Ага, опомнился, — Петр больно дернул себя за усы. И что есть человек? Говорят — венец творенья, а еще и мера вещей, гармония вселенной. Хороша гармония… Гармония — это равновесие, согласие, благоустройность. Ничего этого в нем теперь и в помине нету. И может быть, об этом думал господь, когда сказал: помни, человек, что ты прах и в прах обратишься…
Нет, надобно любыми мерами пресечь грязь, смыть позор. Вот до чего ты довел отца, царевич Алексей Петрович. И отца этого ломало теперь и выворачивало, гнуло и корчило.
— А пошло все к такой матери! — неожиданно вскрикнул Петр и вскочил на ноги. — Делай мне конный статуй, граф! Пущай сто лет пробежит, иными глазами увидят меня, я не буду им казаться таким кривым, как ныне…
Государь взглянул на скульптора твердо и ласково. Славного мастера достали ему в Париже. Хотел он услышать от него слова немедленного согласья, но хитрый лепщик молчал. Петр ждал-ждал их, да не дождался и стремительно заходил по мастерской, сцепив за спиной руки.
— Как ты сам можешь понять, граф, мое желание казенной надобностью не вызывается, — сказал он задушевно и внятно. — Пока что прими в рассуждение, что это моя прихоть! Каприз моего царского величества. Ты мастер, ты поймешь. В своем деле — ты искуснейший. И человек благозаслуженный. Конечно, с норовом, но вам-то, художникам, без оного не прожить — знаю! Вкруг меня все меньше людей, коим можно довериться. Нет уж их совсем! Ищу таковых во всем народе государства своего. И не нахожу! Ни среди знатных, ни среди незнатных. Ближние лгут, от сего убыток. Верных помочников не сыщешь. От воровства устал. Казне вред, подлым людям — разоренье. Вон Шафиров — умен как бес, настойчив, важные услуги отечеству оказал, а тоже… Надоело. Что ж — мне сенаторов публично сечь прикажешь? За корысть их под опасением смертной казни держать, что ли? Состраданья я в себе уже ни к кому не нахожу. Повсюду враги мерещатся, обманы, утайки — в сенате, в коллегиях, в городах и местечках, в церквах, деревнях. Всюду моим нововведениям враги. Прежде я в подозренье никого безвинного не ставил, не то ныне стало. Каждого подозреваю… На что потрачена жизнь? Наказанье на теле, лишение живота, галерная работа, публичная экзекуция — вот и все мое милосердие. Казни и кровь за подлоги и коварство… И более ничего.
Лицо Петра застыло, стало неподвижным, как камень.
Государь удрученно замолк, потом отрывисто спросил:
— Так будешь делать мне статуй, граф?
— С великим моим радением, ваше величество! — быстро ответил Растрелли. Голос у него против воли слегка дрожал.
— Вот и прекрасно, не зря я на тебя надежду имел.
Все время, пока государь говорил, Растрелли слушал его почтительно, невозмутимо, а в голове у него обиженно промелькнуло: как царская прихоть — так позарез Растрелли нужен, а как жалованье платить — так у них оплошка выходит. И нового контракту не дают, живи как знаешь, случайным подрядом…
Скульптор слушал, а сам качал головой, выпячивал нижнюю губу, недоуменно пожимал плечами.
Продолжая расхаживать, Петр подошел к графу, заглянул ему в глаза, внезапно рассмеялся. Он дружески потрепал художника по плечу, сказал с улыбкой:
— Тогда токмо можно говорить с другом на равных, когда камня на сердце не держишь и говоришь то, что думаешь, а не половину, спрятавши другую на самое дно. Скажу тебе как перед богом и его евангелием — я на тебя зла не держу, а ты, вижу, на меня в обиде… За Леблона моего, за битье твоими людьми знатного архитекта я люто на тебя зол был. Да что ж старое-то вспоминать — недобрый это обычай. И Леблона уже не вернешь с того света…
"Ты его туда и спровадил", — неприязненно подумал Растрелли и потупил голову, чтобы чуткий, подозрительный Петр не разглядел в этот момент выражения его глаз.
Читать дальше