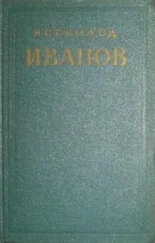Въезжали в село. Из телеги вытаскивалась «печатная машина» — ручная бостонка, на которой некогда печатали визитные карточки; втаскивались в хату кассы, закрытые войлоком, и свернутый рулон бумаги. Штрауб садился к столу, возле черного знамени, и составлял статью. Бабы растопляли печи, готовя угощение. К соседней деревне мчались всадники, чтобы предупредить о встрече, а главное, собрать свежих лошадей. В середине статьи, как раз, когда Штрауб, перечислив «достоинства» махновского царства, переходил к «преступлениям» Советской власти, под окном раздавался уже знакомый крик:
— Пархоменко! Собирайся!..
Тачанки и телеги разбрасывали по дворам, с лошадей снимали седла, винтовки и хобота орудий прятали в соломе, лафеты — в трясине, в зарослях камыша у речки. Хлопцы делали вид, что чинят сбрую; ходили по двору с топорами.
После одной из таких тревог, оказавшейся напрасной, во двор вошел хлопец и велел Штраубу идти к Махно.
Был тусклый декабрьский день. С утра порошило, к обеду, когда Штрауб пришел в штаб, разыгралась большая метель, заклеило окна, закрыло противоположную сторону улицы, и, только Штрауб поднялся на крыльцо, так махнуло сверху, от трубы, дымом на него, что он еле разглядел дверь.
В сенях, отряхивая валенки, он слышал грубый, осипший голос раненого Махно и стук его костылей. Штрауб подождал, когда уйдет обруганный «батько», сдавший в плен две сотни человек, и, по привычке погладив голову, на которой почти не осталось волос, вошел в комнату, крепко прижимая к боку папку с написанными им статьями, которую он захватил на всякий случай с собой.
Стуча костылями, Махно несколько раз прошелся по комнате, а затем, поддерживаемый сестрой милосердия под руку, с легким, каким-то капризным стоном опустился на лавку. Маруся, жена Махно, вынула из низенького резного шкафика графин, налила тоненькую рюмочку и подала Махно вместе с тарелкой, на которой лежали тонкие розовые ломтики сала. Он выпил и, беря сало грязными пальцами с длинными ногтями, сказал, кивая на графин:
— Не той налила. Лимонной хочу.
— Выдохлась корка, никакого запаху не дает, — сказала Маруся, разводя беспомощно руками.
Несколько поодаль, у печи, сидели махновские «батьки» — Чередняк, Правда, Каретник. Среди них сидела Вера Николаевна. Когда Махно подходил к «батькам», он бросал взгляд на Веру Николаевну и криво улыбался.
— А холодно, газета? — резко повернувшись к Штраубу, спросил Махно. — Где Аршинов?
— Сейчас придет.
— Слушай, газета! — сказал Махно, принимая рюмку от Маруси. Он выпил, поморщился и, видимо, не забывая о лимоне, сказал: — А в Мадриде лимоны есть? Ты в Мадриде бывал, газета? Большой город, красивый, а? Вот бы зажечь. Ха! Екатеринослав я жег, Мелитополь жег, Ростов жег, — что мне Мадрид или Париж не зажечь?
— Париж или Мадрид можно, а вот Нью-Йорк нельзя, — сказал, входя, Аршинов. — Здравствуйте, селяне. Здравствуй, батька. Почему, спросишь, нельзя Нью-Йорк?.. Ну, люди здесь свои, скажу. Ривелен к нам едет. Сам Ривелен! Нью-йоркский анархистский батька. Он не позволит нам Нью-Йорк сжечь, ха-ха!..
— Ну, едет, и черт с ним, — сказал Махно. — А ты с чем пришел? Какие предложения? Чего вы все молчите?! Я знаю, что вы сговорились!
Аршинов улыбнулся:
— Ну, в моем предложении мы не сговорились. Пришло время, батька, мобилизовать у селян еще по одному коню со двора.
— Не можно, — сказал батька Правда. — Этого никак не можно: селяне на нас рассердятся, начнут Пархоменке помогать… нет, больше коней у селян брать нельзя.
Чередняк проговорил:
— Чего нью-йоркский батька везет? Коней бы вез!
Аршинов, привыкший к манере «батьков», продолжал:
— Артиллерия заграничная, хорошая, а без толка вязнет в снегу, пропадает… вот и сейчас отстала. Коней не хватает, батька! Надо конскую мобилизацию объявлять.
— Уходи, — сказал Махно. — Надоел. Кони, кони! Ненавижу!
— Кого, батька?
— Спать не могу. Водка не пьянит. Никому не верю. Куда ни пойду, он везде меня — рукой за горло! Кто? Пархоменко! — Он подсел к «батькам», рядом с Верой Николаевной. Маруся поднесла ему новую рюмку водки. Махно обнял Веру Николаевну за талию. Она отодвинулась.
— Я — замужняя, батька.
— Можно развести.
— Каким образом?
— Не образом, а обрезом.
— Глупо!
— Паскудная зима… — сказал среди общего молчания батько Чередняк. — То снег, то слякость… а он все-таки за нами скаче…
Батько Правда спросил:
— Кто?
— Да он же!.. Кони у него добрые… а нам у селян никак нельзя коней брать… выдадут.
Читать дальше
![Всеволод Иванов Пархоменко [Роман] обложка книги](/books/403890/vsevolod-ivanov-parhomenko-roman-cover.webp)