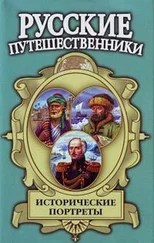Но никто утром не видал, как выглядит Афанасий. Он встал, только-только забрезжила ранняя бледная зорька. Взял плетеное ведро, пошел к желобу колодца, принес коню студеной воды. И поил его, пока Васька, расшалившись, не сунул морду в ведро и не дунул на хозяина целым дождем светлых брызг. И чистил ему Афанасий крутые бока и высокую спину, и расплетал-заплетал густую конскую гриву, и взнуздал коня новой шелковой уздечкой. А когда молодая заря разгорелась во всей своей алой красе, поцеловал коня в жаркие трепетные ноздри и сказал по-русски: «Пойдем, Васька!», а потом еле слышно добавил на языке хинду: «Наступил назначенный час!»
— Афа-Нази! Куда ушел Афа-Нази? Он вернется к нам? — добивалась Калабинга. Но отец и сестра не отвечали. Ничего не сказали они и когда Афанасий не пришел к обеду. Безмолвно ели вареный рис, и только отец прикрикнул на Калабингу, на ее неугомонные вопросы: «Ешь и молчи!» И все замолчали.
Но как же ахнули, как встрепенулись они после обеда, когда вошел похудевший Афанасий и без всяких объяснений положил на колени Чандре ее заветные браслеты.
— Вот твои побрякушки, дочка! Береги материно наследство! — сказал он девушке.
Она молча глубоко склонилась перед ним и вышла во двор, захватив конскую кормушку с моченым горохом. Афанасий поглядел на ее отца.
— Давай-ка сосни, Чандака! Лица на тебе нет. Глаз не сомкнул, наверно? Ложись, почивай. Заплатил я твои налоги. И на прокорм им дал, собакам несытым. Присмиреют теперь до поры до времени, законники, волки голодные!
И, потянувшись так, что хрустнули кости, улегся на свою трявяную подстилку.
— А обед? Афа-Нази! Ты не обедал? — подбежала Калабинга.
— Ничего не хочу. Сыт по горло, — буркнул он и закрыл глаза. — Не скачи, Воробушек! Сон милее всего.
— Он продал коня! — шепнула отцу Чандра, вернувшись с полной кормушкой.
Чандака взглянул на спящего Афанасия и дал знак дочерям не шуметь.
— Широта сердца! — сказал он еле слышно. — Продал коня, чтоб заплатить за меня налоги и выручить твои заветные украшения… Чандра, много встречается на свете и доброго, и злого; много еще предстоит нам увидеть, но вряд ли когда-нибудь встретим мы еще раз такое сердце — русское сердце, не имеющее меры для жалости, не знающее границ для доброты.
Налоги уплачены; торговля плетеным товаром бойко пошла; ни болезней, ни голода не видать в доме Чандаки. Плохо ли? И, если глядеть по поверхности, чего бы теперь бояться, откуда ждать худа? Но Афанасия не обманешь.
Он знает: покоя на свете нет и столь желанный для человека отдых дается лишь на самый кратчайший миг. Только-только успеешь перевести дух — и уж тебя кругом обступили тревоги. Ползут толпами, как лихие сны; вьются над головой, подобные злобным осам. Откуда берутся они, горестные тревоги, как родятся злые предчувствия в беззащитном сердце людском? А вода откуда берется в океан-море? Откуда тонкий туман забелился над лугами над шелковыми, над медвяными травами? Почему, увидав нового гостя у очага Чандаки, Афанасий не размышлял и не сомневался, а твердо, уверенно сказал себе: «Вот оно! Быть беде, быть худу великому!»
Никитина не было дома, когда новый гость переступил порог хижины плетельщика. Когда же Афанасий вернулся с базара, первое волнение встречи уже улеглось; обряды почетного угощения уже были выполнены. Новый гость сидел перед очагом, в мирной беседе с главою семьи. Сидел он прямо на земле, даже без травяной подстилки, но и сидя был выше всех ростом, так что Чандра, не спускавшая с него глаз, смотрела снизу вверх. Да как смотрела! Словно бы пред ней небеса раскрылись, словно бы ей предстало видение, которого она всей душой ждала, в котором явлен весь смысл ее жизни. Желтое сари скатилось с девичьей головки; чернобровое смуглое личико все открыто, все освещено, — а до сих пор его тонкие черты лишь бегло мелькали в желтой тени покрывала. Афанасий впервые увидел это лицо в таком ослепительном блеске. Оно, казалось, было озарено не красноватым огнем светильника, а яркой силой изнутри проступившего чувства. Афанасий смотрел и не узнавал. Где задумчивая сдержанность Чандры, где ее тихая скромность? Голова откинулась, рот полуоткрылся; темным румянцем окрасились матовые щеки. И глаза уже не сияют тихой радостной доверчивостью; о чем-то мучительном вопрошают эти огромные глаза; они расширились, углубились, и сурово легли под ними черные тени. Чандра внезапно стала старше, собранней, крепче; нет, это не хрупкая девочка в своем ребяческом любопытстве загляделась на новое лицо; это много страдавшая, много постигшая женщина всей волей стремится к тому, кто принес ей желанную и страшную весть. «Что с ней? Наваждение, что ли?» — спрашивал себя Афанасий, не в силах уразуметь этой внезапной перемены. Он хотел бы глазами спросить Чандру, он искал хоть на мгновение встретиться с ней взорами, — а она и головы к нему не повернула и не глянула в его сторону; ни на единый миг не оторвался ее взгляд от нового гостя. Афанасий видел, как шевелятся ее полные темно-алые губы, как сошлись прямые черные брови, и, не находя в этом новом лице прежнего робкого очарования, осуждающе и неприязненно размышлял: «Сбесилась, что ли, девка? Ишь уставилась на старика, без стыда безо всякого! При отце, при сестренке! Все глаза проглядела. А на что глядит? Глядеть-то не на что. Так, бродяжка невзрачный; нищий старик, полуголый, тощий. Видать, по всему Хиндустану елозит за подаянием. Да не больно-то подают. До чего худущий!..» И Афанасий, в свою очередь, воззрился было в лицо этому полуголому нищему — да так и потупил глаза. Силой и волей повеяло от его изможденного облика. Словно из темного камня было вырезано твердое горбоносое лицо — тонко, искусно вырезано — и до краев напоено несказанной гордостью, беспощадной, бесстрашной самоуверенностью.
Читать дальше