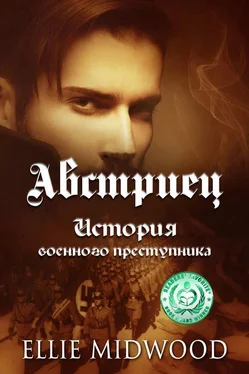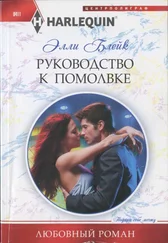— Оставьте меня все в покое. Я уже умер, — пробормотал я, еле шевеля горящим языком.
— Я вполне уверен, что вы еще очень даже живы, — спокойно отозвался голос. — А теперь повернитесь-ка ко мне и выпейте это лекарство. У вас и так легкие не в лучшем состоянии, и нам уж точно не нужны никакие осложнения от бронхита, не так ли?
После того, как я проигнорировал его просьбу, тюремный доктор, как я впоследствии узнал, аккуратно, но решительно, просунул руку мне под спину, приподнял меня до сидячего положения и прижал что-то сильно пахнущее травами и химией к моим пересохшим губам.
— Открывайте. Ну, откройте же рот. Не заставляйте меня просить вашего охранника вам силой его открыть!
Я тогда хотел только, чтобы они все оставили меня уже в покое, и если прием этой отвратительной травяной смеси заставил бы их исчезнуть, я решил не сопротивляться. Он был прав, тот доктор, чьего лица я так и не смог разглядеть, потому как они наконец-то погасили свет, и единственным его источником была открытая дверь в камеру, когда он сказал, что мне станет намного лучше. По правде говоря, я впервые за долгое время почувствовал себя беззаботно-спокойным, и даже счастливым что ли, после второго укола, что он мне сделал. Морфий. Я улыбнулся, понимая, почему Геринг развил такую к нему зависимость много лет назад, и почему он всегда находился в таком прекрасном настроении. Морфий был самой добротой, самим умиротворением, но только до тех пор, пока эффект его не начал выветриваться, оставляя меня в еще более поганом состоянии, чем раньше. Он снова вколол мне еще одну дозу на следующее утро, но на этот раз намного меньше первой и пристально наблюдал за моей реакцией после того, как проверил остальные жизненные показатели.
— Смешные вы люди, — заметил я, поглаживая мое одеяло, которое вдруг стало невероятно мягким, не испытывая той эйфории, что вчера, но уже и не чувствуя никакой боли. Просто очень приятное онемение во всем теле. Я улыбнулся доктору. — Вы лечите меня от гриппа, чтобы я не дай Бог от него не умер, только чтобы повесить позже.
— Это уж не мне решать. Я просто делаю свою работу. И вас еще даже не вызывали для дачи показаний. Откуда вам знать, каким будет результат вашего слушания?
Я мягко рассмеялся над наивностью его слов.
— Я бывший шеф РСХА и лидер СС, подчинявшийся непосредственно Гиммлеру. Я был главой гестапо. Моя подпись стоит на сотнях приказов о «специальном обращении». Что вы думаете судьи сделают? Наградят меня золотой звездочкой на лоб и отпустят?
— Он всегда такой саркастичный или это морфий? — доктор повернулся к доктору Гилберту, который только вошел ко мне в камеру, чтобы справиться о моем состоянии. Или позлорадствовать, что было гораздо более вероятно.
— Всегда, когда он не играет невинно обвиненную жертву при других. Тогда он так тих и покорен, что слезу может вышибить. Некоторые уже сделали эту ошибку и поддались его чарам. — Психиатр скрестил на груди руки, выразительно на меня посмотрев, явно имея в виду тесную дружбу между мной и агентом Фостером, который посещал меня время от времени к огромному неудовольствию того же Гилберта. — К счастью, мне удалось приложить знание психиатрии, чтобы раскусить его истинный характер. Он хитер, как лис. Он знает, что я это знаю, и потому так сильно меня не любит.
Я никак не отреагировал на провокацию и только улыбнулся, уже закрывая глаза. Они обменялись еще парой комментариев по поводу моего здоровья и наконец оставили меня в покое. Я вздохнул с облегчением, отвернулся к стене и тихо усмехнулся той мысли, что доктор Гилберт не был единственным с таким обо мне мнением. Большинство из моих подчиненных в РСХА скорее всего с ним согласились бы, и чем больше они меня ненавидели за все те унижения и сарказм, что я на них регулярно щедро выливал, тем более саркастичным и ненавистным я становился, как если бы питая монстра, что они сами сотворили.
Берлин встретил меня, австрийца, которого никто не ожидал увидеть назначенным на этот пост, с недоверием и предубеждением, а меня слишком мало волновало их мнение, чтобы я попытался хоть как-то его изменить. Думаю, тот факт, что я немедленно окружил себя одними австрийцами, которых я тут же назначил на ключевые позиции, также не добавило мне популярности в глазах берлинцев. Из всего личного состава РСХА только один человек, по абсолютно необъяснимой для меня причине, принял мою сторону. СС-хелферин Аннализа Фридманн.
Я вспомнил, как сидел за столом в моем кабинете в начале 1943, поздно вечером, с пустой бутылкой бренди передо мной и с кофейной чашкой, наполненной окурками, потому как пепельница была уже давно переполнена, и прижимал дуло пистолета к виску. Я был уверен, что той ночью все закончится, раз и навсегда. Моя жизнь была полнейшим, безнадежным и бесцельным бардаком. Я чувствовал себя как в клетке в этом холодном и таком чужом городе, где я ненавидел всех и каждого вокруг, а себя и подавно. Но что было хуже всего, так это то, что я только что потерял единственного человека, который все еще заботился обо мне и бескорыстно любил меня, пусть я и не понимал за что.
Читать дальше