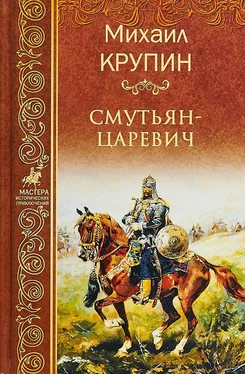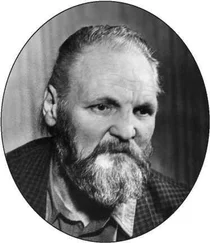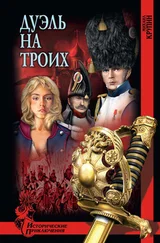Но в это утро малой еще храбро размахивал шашечкой.
— Вот присный волок [117] Вечный двигатель.
, — вознегодовали-таки поварихи, — глаз чаешь выткнуть кому-нибудь? На вот блинок и шасть отсель.
Побродив по всем горницам, тонко пахнущим всеми родными и грустной тоской по ним, Басманов решил двинуться сам на базар и там встретить мать. Накинул свой армячок и вышел во двор. По улице мимо ограды двора как раз проходил грохот и шум.
Сторож усадьбы старик Пул стыл, приникнув к щели в частоколе и обратившись весь в ужас того, что увидел в щели. Догадавшись: если пойти мимо Пула к воротам, то старик заметит его и не пустит в уличный шум, — Петр разогнался за спиной сторожа на качелях, перелетел, как на крыльях, забор и ушел в желтый сугроб. Выкопавшись, едва остался цел — сквозь переулок тесно несся народ. «Гойда! Гойда! — гоня народ плетьми, кричали всадники в ярких кафтанцах, унизанных жемчугом, с метлами и головами псов при седлах, с какими выезжали прежде дед и отец. — Не бойсь, не бойсь! Все на базар! Царь вам утеху кажет — больших врагов сказнит, а вас пока помилует!» Гремели, схлопываясь, медью тулумбасы [118] Литавры, укрепленные на лошади так, что при движении хлопали.
на крестцах опричных коней.
Петр сотворил маленькую молитву и во весь дух побежал с толпой. «Мамка уже там! — вспомнил он. — Если что важное пропущу, потом расскажет». «Малёк, задавят, подь-ка!» — нагнулся в седле статный незнакомый опричник, подхватил под мышки Петю и усадил перед собой на арчак [119] Деревянный остов седла.
.
Торговая площадь уже не могла шелохнуться, пресытясь русским народом, только посередине, откуда убраны были лавки, виднелось более вольное место, удерживаемое цепью стрельцов. Там омывал черный чан прозрачный алый костер, чан испускал могучий столб пара. Вокруг него теснились рубленые «глаголы» [120] Буква «Г», виселица.
— Петр узнал и прочел уже изученные с дедом по азбуке буквы.
Опричник опустил его с седла к глазастой детворе, освоившей балясины чьей-то резной избы, а сам поскакал назад — на поиски остатков спрятавшегося и прозябающего в темноте народа. Мальчики на балясинах начали приближать к Басманову суровые лица, проверяя его дух и удобство случая снять с барчука армячок.
— У меня мамка рядом, а отец с дедом взяли Казань! — сказал Петя ребятам и провел кленовой сабелькой им по носам.
— Сейчас привели еще триста лазутчиков польского короля, — тогда уже с уважением молвили ему, — царь много самых калек пощадил, на остальных, сказал, суд правоту наверстает.
— Так что ж вы тут, как гости, притулились? — отчитал детей Басманов. — Айда поближе к огню.
— Народу прорва, Христос с тобой! — оробели малые.
— Слабо?! — Басманов соскользнул с заледенелых перил крыльца. Плотным лесом встали вокруг большие. Тогда он присел на четвереньки и где вьюном, где тараном пробился в чаще сапог и лыковой роще лаптей, определяясь по направлению всех ступней. Взрослые не честили и не втаптывали в землю дерзко ползущего отрока, прочно завороженные зрелищем, и Басманов нежданно достиг первого ряда.
И то, что близко увидел, звонко оттиснулось в памяти сердца навек. Чуть не упал от злого запаха бойни, полой чьего-то охабня сжал нос, только глаза не сумел закрыть, сами расхлопнулись и, не мигая, учились русскому правосудию.
Преступникам, уже изломанным где-то и едва державшимся, опричные дьяки гордо зачитывали их вины. Кто оказывался лазутчиком литовского короля, кто — шведского, кто-то потворствовал Крыму, многие работали на все разведки одновременно. При прочтении очередной вины дьяк ударял подсудимого в ухо, тот подлетал к дымной плахе и помещал под топор голову. Некоторых вешали за ногу и разделяли, как туши; иные, крича на колу, молили Бога хранить царя.
Сам царь (Петя совсем не узнал его, хоть дед показывал внуку Ивана IV на торжестве пещного действа) сидел нынче на возвышении в кресле и тряс вылезающей бородой. Царь хохотал, лучась деснами, загнув к губам ястребиный варяжский нос и закатив к небу зраки. Возле Ивана сутулился в тигровой шкуре громоздкий псовоподобный Малюта, что-то шептал царю, водя перстом по деталям различных мучений разведчиков, и царь принимался забвенно трястись и визжать пуще.
Все ближние опричники Ивана (даже те, которые не руководили казнью, а только теснились вокруг государева кресла искрящейся праздной толпой) были пьяны и расхристанны, в лицах свободно плутал позыв первых людей к злу. Только один придворный не был хмелен (Басманов сразу его отличил), один он зяб и, ежась, попрыгивал; над ним смеялись опричники. Молодой стольник не отвечал на насмешки, предвзято спокойно похлопывал варегами по бокам, лишь бледность скул на морозе выдавала его да длинные монгольские глаза тщетно старались отвлечься, уйти от крови и казни.
Читать дальше