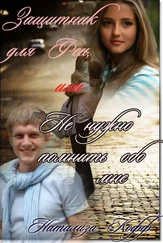— Чего ты здесь обосновался, Василий Михайлов, у всего мира на виду? — поинтересовался Сухинов.
— От судьбы все одно не схоронишься, — ответил бывший фельдфебель. В тоне, каким это было сказано, прозвучало глубокое, выстраданное равнодушие и презрение ко всему. Таким тоном безоглядного спокойствия говорят обыкновенно люди, которые перешагнули предел житейских упований, и больше им ничего не дорого. Это Сухинова насторожило. Опустошенный жизнью человек легко смерть принимает, но в бой идет без азарта.
Голиков, которому деньги на сапоги жгли карман, вскоре их покинул.
— Могучий мужик, а кончит обязательно в петле, — небрежно заметил Михайлов.
— Почему?
— Остервенился шибко. А на кого — сам не знает.
— Жизнь его по головке не гладила.
Михайлов взглянул с упреком, заметил:
— Жизнь злых озлобляет, а кто бога помнит, того не озлобишь.
Они пошли по дороге за рудник, к роще. Сухинов, по обычаю, выспрашивал, стараясь понять как можно больше о новом знакомце. Михайлов отвечал на вопросы без хитростей, и речь его была на удивление гладкой, немужичьей. В нем не было неистового запала Голикова, но явственно ощущалась неколебимая твердость труженика. По прежней службе Сухинов знал, что такие солдаты самые надежные. Живут как дышат, чисто, честно, без суеты. Единственное, о чем Михайлов не захотел рассказать — за что угодил на каторгу.
Так он Сухинову приглянулся, так был весь на виду, открыт и удару и дружескому слову, что он решил не тянуть, скоро завел речь о главном.
— Предприятие, которое я затеваю, опасно и гибельно, может быть. Готов ли ты, Михайлов, в нем участвовать?
Фельдфебель посопел, но ответил без запинки:
— Мне еще шесть лет осталось. Навряд я их проживу. Пойду с тобой, Сухина! Затем и встречи искал.
Сладко ныло в груди Сухинова. С каждым часом он приближался к дели. Как надеялся, так и вышло. Люди подбирались решительные, сильные. Он объяснил Михайлову весь свой план без утайки. Тот, казалось, слушал не очень внимательно, или не все понимал.
— Ты согласен с тем, что я предлагаю?
— Чего там, Сухина. У меня руки на злодеев чешутся, мочи нет терпеть. Сколь же можно над нашим братом безнаказно измываться?! Да ты мне скажи: давай, Васька, в огонь кинемся и сгорим, чтобы им насолить. Я кинусь… У меня дома семья — женка и детишек трое. Старшому шестнадцать годков ныне. Мне бы вроде укрепиться надо и терпеть, чтобы к ним воротиться, хотя бы повидать разок. А я не могу, Сухина! Ждать боле не могу. Не появись ты, я бы к лету тайгой ушел. Видать, иссякло терпение. Его ведь, как и жизни, человеку не без края отпущено. Сколь есть его, столько стерпишь. Но не боле… Хочу спросить у тебя, ты сам из каких будешь? По всему, должно, из бар. А обхождение у тебя простое, и душа, вижу, за общество болит.
— Всякие есть и дворяне и мужики.
— Это да, — сказал Михайлов. — Это как водится. Ты все же теперь поберегись, послушай моего совета. Никому особо сердце не распахивай. Мы с Пашкой сами кого надо обратаем. Потому такое дело без головы не делается. Возьмут тебя допреж времени — всему точка.
— Ладно, — согласился Иван Иванович. — Только времени этого мало. Весна на пороге.
— Поторопимся, отчего же.
Возвращаясь, они встретили счастливого Голикова. Тот шагал враскорячку, каждый раз ставя ногу так, чтобы самому получше видно было сапог. Успел справить обновку. Рядом с ним прискакивал ушастый пьяненький мужичонка, нахваливал на всю улицу:
— Ах, Паша, ну прямо царь, вот те аминь! Это где ж ты спроворил?! Самое тебе ж по чину. Мне дай — не одену. Не по Сеньке шапка. Это же какая обувка, так и пылают, так и пылают!
Голиков млел. Важно приблизился к Сухинову.
— Ну вот и утеплился, благословись. Как в раю теперича. Васька, гляди, черт смурной!
— По моему подсказу, по моему подсказу! — суетился мужичонка.
— Сгинь! — велел ему Голиков. — Ишь, дьявол, угощение за версту чует.
Мужичонка на всякий случай отодвинулся, сделал вид, что обижен понапрасну.
— Вы, барин добрый, меня не помните? Лешка я Козаков. Бы меня винцом как-то оделили, не побрезговали. Голиков зря меня хулит. Не слухайте. Я за него жизнь положу, не дрогну. Как увидал я в лавке энти сапоги, так сердце за Пашу восторгом облилось. Аж я затрепетал.
— Иди в другом месте трепещи.
Теперь Козаков уловил в голосе Голикова отголоски неподдельной угрозы, больше ничего не возразил, побрел в сторону кабака.
— Кто это?
— А-а, — махнул Голиков. — Дрянь-человек. За косушку удавится. Но он нам пригодится. Плевки вылизывать горазд. Пьяный только дурной очень.
Читать дальше
![Анатолий Афанасьев ...И помни обо мне [Повесть об Иване Сухинове] обложка книги](/books/394501/anatolij-afanasev-i-pomni-obo-mne-povest-ob-cover.webp)